Университетские годы — Биография Франца Кафки
Клод Давид, Франц Кафкаглава 4
«Нам не дано постичь чужие святыни».
Мы добрались до 1901 года, Кафке исполнилось восемнадцать лет. Он без всякого труда сдал экзамен на аттестат зрелости, которого так боялся; теперь он рассказывает, что добился этого только путем жульничества. Наконец, для него наступило время выбирать путь дальнейшего образования и, следовательно, отчасти заложить основы своего будущего. В «Письме отцу» он не обвиняет его в том, что тот оказал влияние на его выбор, но отцовское воспитание сделало его столь безразличным в этом плане, что он спонтанно выбирает облегченный путь, ведущий его к юриспруденции. Достигнув восемнадцати лет, Кафка не ощущает в себе никакого призвания: «Настоящей свободы в выборе профессий для меня не существовало, я знал: по сравнению с главным мне все будет столь же безразлично, как все предметы гимназического курса, речь, стало быть, идет о том, чтобы найти такую профессию, которая с наибольшей легкостью позволила бы мне, не слишком ущемляя тщеславие, проявлять подобное же безразличие.
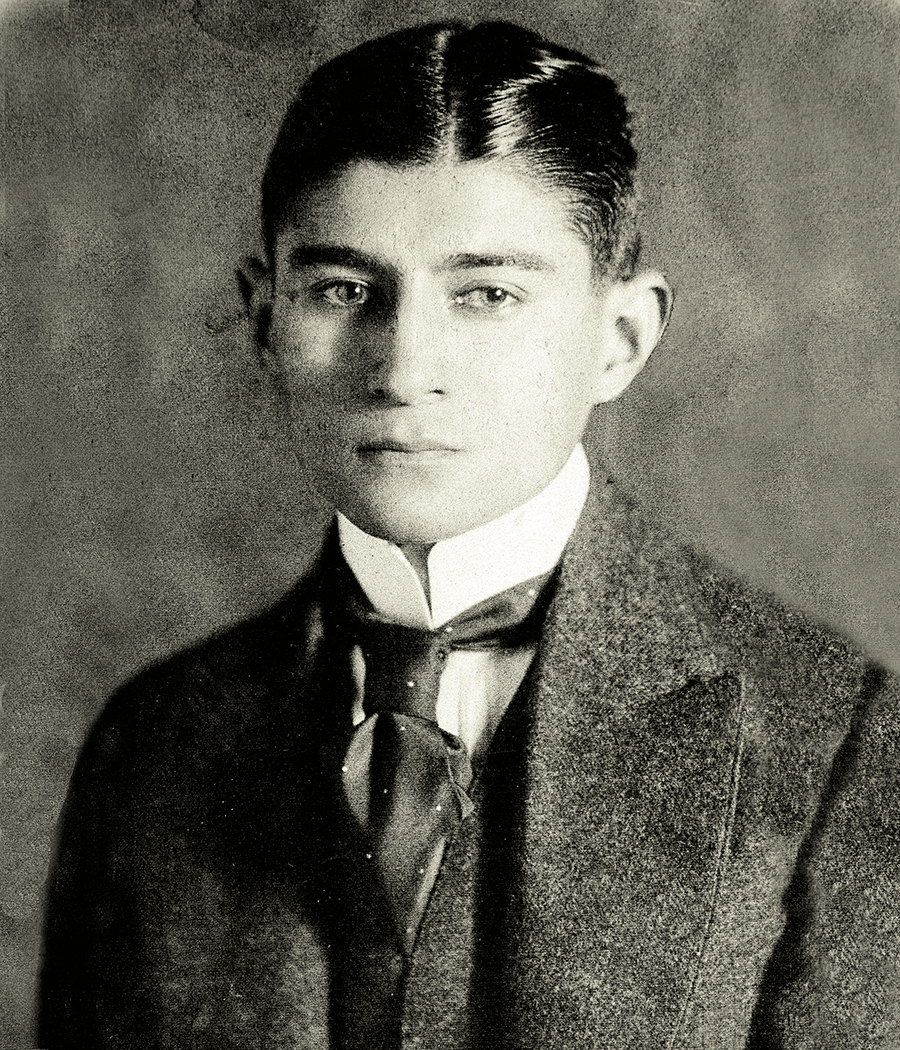
Наиболее предпочтительным решением для Кафки было бы полностью прервать университетские занятия, к которым он испытывал так мало интереса. Однажды, когда его мадридский дядя проездом находился в Праге, он обращается к нему с просьбой подыскать ему где-нибудь занятие, чтобы, как он сказал, иметь возможность «прямо приступить к работе». Ему дали понять, что разумнее немного поусердствовать в учебе.
Так что некоторое время он продолжает следовать своей ухабистой дорогой, по выражению Франца, как «старая почтовая карета». Его товарищ Пауль Киш уезжает в Мюнхен; Кафка следует за ним с намерением продолжить там учебу, но быстро оттуда возвращается. Что произошло? Был ли он разочарован тем, что увидел? Или, может быть, отец отказал ему в необходимых для учебы за границей средствах? Мы этого не знаем. Мы знаем только, что из-за этого неудавшегося путешествия он будет говорить о когтях матушки-Праги, которая не отпускает своей жертвы. Мы знаем также, что годом позже, в 1903, он вернулся в Мюнхен на короткое время, неизвестно с какой целью. Когда он будет говорить о Мюнхене, то лишь для того, чтобы упомянуть о «прискорбных воспоминаниях юности».
Что произошло? Был ли он разочарован тем, что увидел? Или, может быть, отец отказал ему в необходимых для учебы за границей средствах? Мы этого не знаем. Мы знаем только, что из-за этого неудавшегося путешествия он будет говорить о когтях матушки-Праги, которая не отпускает своей жертвы. Мы знаем также, что годом позже, в 1903, он вернулся в Мюнхен на короткое время, неизвестно с какой целью. Когда он будет говорить о Мюнхене, то лишь для того, чтобы упомянуть о «прискорбных воспоминаниях юности».
Итак, он снова берется за привычное и опостылевшее ему изучение юриспруденции.
Он вынужден, по меньшей мере в течение месяцев, предшествующих экзаменам, «питаться, как он говорит, древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов». Но в конечном итоге он почти приобрел к этому вкус, настолько это показалось отвечающим его положению. От учебы и профессии он не ждал спасения: «В этом смысле я уже давно махнул на все рукой».
Нет смысла говорить о его преподавателях на юридическом факультете, поскольку они оказали на него очень мало влияния.
Докторские экзамены проходили с ноября 1905 по июнь 1906 года. Кафка сдал их без особого блеска, на «удовлетворительно». Так закончился один из наиболее бесцветных эпизодов его жизненного пути.
Походя заметим, что, наверное, как раз в университетские годы Кафка стал брать уроки английского. Он очень хорошо знал чешский и французский и собирался немного позже учить итальянский. На этом основывается одна из граней его дарования и его знаний, о чем иногда забывают.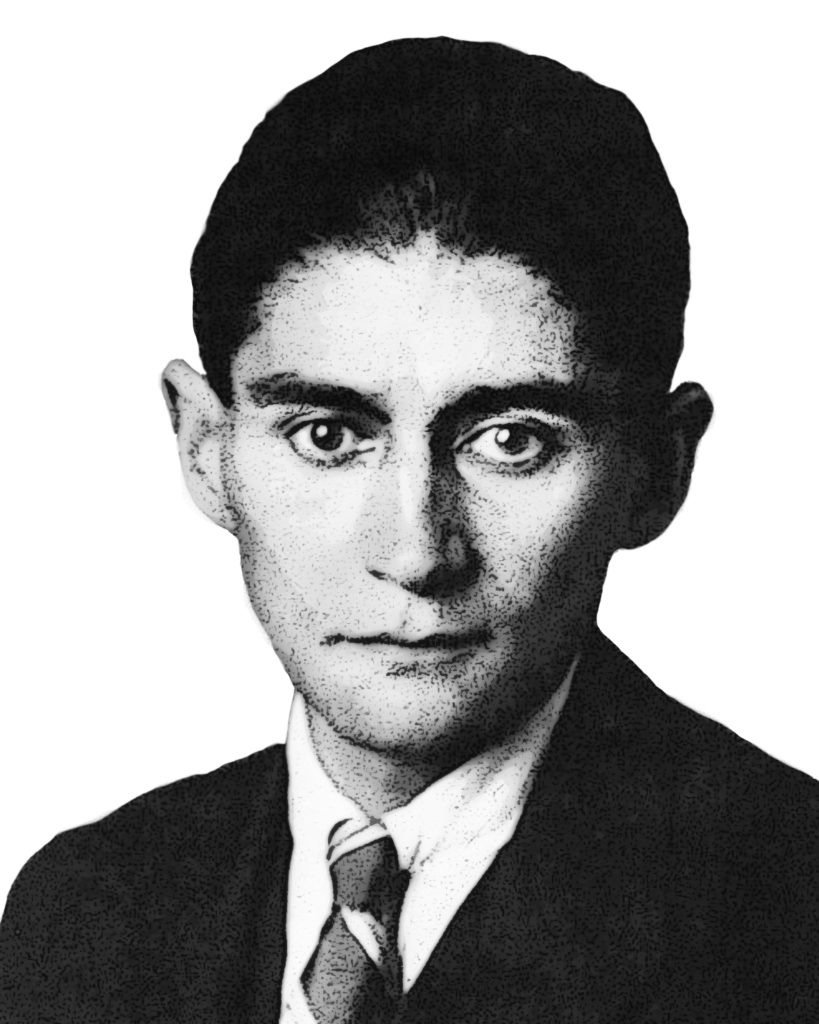
* * *
Кое-кто из его биографов продолжает приписывать Кафке политические взгляды и даже пристрастия. Мы охотно признаем, что в гимназии он высказывал свои симпатии бурам: весь мир, кроме Англии, был на их стороне. Но что это за Altstadter Kollegentag — «Коллегиальная Ассоциация Старого города», где Кафка, будучи еще лицеистом, якобы отказался встать, когда другие запели «Стражу на Рейне»?
Мы не можем представить себе Кафку, участвующим в публичных демонстрациях такого рода, и к тому же «Ассоциация» не предназначалась для лицеистов. Это была одна из многочисленных немецких националистических группировок Университета; исключено, чтобы Кафка когда-либо мог входить в нее. Говорят также, что он носил в петлице красную гвоздику анархистов. В самом деле, вопрос о красных гвоздиках однажды возникает в одном из писем Оскару Поллаку. Кафка пишет: «Сегодня воскресенье, торговые служащие спускаются на Вензельсплац, идут до Грабена и громкими криками ратуют за воскресный отдых.
Кафка не социалист и не анархист, тем более не «брентанист». Вся университетская философия в странах Австрийской державы вдохновлена мыслью Франца Брентано. Сам он, сбросивший монашеское одеянье доминицианца, чтобы жениться, живет теперь в ссылке во Флоренции, лишенный своих должностей и почти слепой. Но его ученики продолжают занимать все кафедры в сфере образования, в частности в Праге. И «брентанисты» регулярно собираются в одном из кафе города, в кафе «Лувр», для обсуждения идей. Кроме того, жена одного аптекаря из Старого города, Берта Фанта, под вывеской «Единорога» организовывает у себя дома литературные или философские беседы, которые прилежно посещают «брентанисты» и в которых позднее несколько раз примет участие Альберт Эйнштейн. Мы не хотим сказать, что Кафка был обычным гостем на встречах в кафе «Лувр» и вечеров Фанты, мы хотим показать, что его мысль была лишь калькой тем Брентано. А Макс Брод на этот счет категоричен: Кафка был введен на собрания в кафе «Лувр», несомненно, его друзьями Утицом, Поллаком или Бергманном, но он бывал там очень редко и скрепя сердце. Его надо было также очень упрашивать, чтобы он согласился пойти к Фанте — письмо 1914 года Максу Броду подтверждает это еще раз. Когда он случайно заходил туда, то обычно очень мало вмешивался в дискуссии. С другой стороны, если иногда на вечерах Фанты принимали участие несколько ортодоксальных брентанистов, то это не значит, что в центре дебатов было учение Франца Брентана. Речь шла, говорит Макс Брод, о Канте (опозоренном брентанистами), о Фихте или о Гегеле.
Кроме того, жена одного аптекаря из Старого города, Берта Фанта, под вывеской «Единорога» организовывает у себя дома литературные или философские беседы, которые прилежно посещают «брентанисты» и в которых позднее несколько раз примет участие Альберт Эйнштейн. Мы не хотим сказать, что Кафка был обычным гостем на встречах в кафе «Лувр» и вечеров Фанты, мы хотим показать, что его мысль была лишь калькой тем Брентано. А Макс Брод на этот счет категоричен: Кафка был введен на собрания в кафе «Лувр», несомненно, его друзьями Утицом, Поллаком или Бергманном, но он бывал там очень редко и скрепя сердце. Его надо было также очень упрашивать, чтобы он согласился пойти к Фанте — письмо 1914 года Максу Броду подтверждает это еще раз. Когда он случайно заходил туда, то обычно очень мало вмешивался в дискуссии. С другой стороны, если иногда на вечерах Фанты принимали участие несколько ортодоксальных брентанистов, то это не значит, что в центре дебатов было учение Франца Брентана. Речь шла, говорит Макс Брод, о Канте (опозоренном брентанистами), о Фихте или о Гегеле.
Итак, в данный момент Кафка с уже покорной пассивностью скользит туда, куда увлекают его среда, отец, привычка — все, кроме собственного вкуса.
В университете он, разумеется, находит самые разнообразные студенческие корпорации, многие из них были объединены в сообщество под названием «Германия», в которое входили немецкие националисты и где практиковались дуэли на рапирах, с тем чтобы завоевать рубцы на щеках. Это были очаги антисемитизма, и там не было ничего, что могло бы привлечь Кафку; евреев, к тому же, туда вовсе не принимали. С 1893 года существовала также корпорация студентов-сионистов, которая сначала называлась «Маккавеи», а потом с 1899 г. получила название «Бар-Кохба», активными участниками которой, когда Кафка пришел в университет, были Гуго Бергманн, Роберт Вельч и также многие другие. Макс Брод в это время еще держался в стороне, он присоединился к «Бар-Кохбе» только несколькими годами позднее. Кафку это тоже не увлекало, его спонтанно тянуло к ассоциации с «либеральной» тенденцией — «Галерее лекций и чтений немецких студентов», в которой состояло наибольшее число еврейских студентов университета. Отношения этой «Галереи» с «Бар-Кохба» бывали порой натянутыми, поскольку в ней господствовала тенденция сознательной «ассимиляции». Ассоциация управлялась Комитетом, который заведовал фондами, где главная роль принадлежала Бруно Кафке, обращенному кузену будущей знаменитости города, по отношению к которому Макс Брод питал некую вражду.
Это были очаги антисемитизма, и там не было ничего, что могло бы привлечь Кафку; евреев, к тому же, туда вовсе не принимали. С 1893 года существовала также корпорация студентов-сионистов, которая сначала называлась «Маккавеи», а потом с 1899 г. получила название «Бар-Кохба», активными участниками которой, когда Кафка пришел в университет, были Гуго Бергманн, Роберт Вельч и также многие другие. Макс Брод в это время еще держался в стороне, он присоединился к «Бар-Кохбе» только несколькими годами позднее. Кафку это тоже не увлекало, его спонтанно тянуло к ассоциации с «либеральной» тенденцией — «Галерее лекций и чтений немецких студентов», в которой состояло наибольшее число еврейских студентов университета. Отношения этой «Галереи» с «Бар-Кохба» бывали порой натянутыми, поскольку в ней господствовала тенденция сознательной «ассимиляции». Ассоциация управлялась Комитетом, который заведовал фондами, где главная роль принадлежала Бруно Кафке, обращенному кузену будущей знаменитости города, по отношению к которому Макс Брод питал некую вражду. «Галерея» носила черный, красный и золотой цвета, а также цифру 1848 — дату ее создания, которая фигурировала на ее эмблемах. «Галерея» и «Германия» соперничали между собой. В «Галерее», однако, в основном занимались поддержкой библиотеки, одной из лучших в городе, и организацией лекционных вечеров. Это было заботой «секции искусства и литературы», которая приобрела в «Галерее» некую автономность, в ней Кафка позднее в течение некоторого времени будет исполнять скромные административные функции (ответственного по вопросам искусства). Иногда приглашали важных персон — так, за большие средства был приглашен поэт Детлев фон Лилиенкрон, чья слава тогда уже начинала клониться к закату, иногда предоставляли трибуну студентам. 23 октября 1902 года один из них прочитал лекцию о «судьбе и будущем философии Шопенгауэра». Кафка пришел послушать ее, и этот день стал, может быть, наиболее важным в его жизни. Лектором был Макс Брод, который был на год моложе его, таким образом они познакомились. Кафка, который в прошлом немного читал Ницше, нашел, что лектор чрезмерно сурово обошелся с философом (некоторые исследователи, придавая слишком большое значение этой скудной информации, хотели сделать из Кафки, и совершенно напрасно, ницшеанца).
«Галерея» носила черный, красный и золотой цвета, а также цифру 1848 — дату ее создания, которая фигурировала на ее эмблемах. «Галерея» и «Германия» соперничали между собой. В «Галерее», однако, в основном занимались поддержкой библиотеки, одной из лучших в городе, и организацией лекционных вечеров. Это было заботой «секции искусства и литературы», которая приобрела в «Галерее» некую автономность, в ней Кафка позднее в течение некоторого времени будет исполнять скромные административные функции (ответственного по вопросам искусства). Иногда приглашали важных персон — так, за большие средства был приглашен поэт Детлев фон Лилиенкрон, чья слава тогда уже начинала клониться к закату, иногда предоставляли трибуну студентам. 23 октября 1902 года один из них прочитал лекцию о «судьбе и будущем философии Шопенгауэра». Кафка пришел послушать ее, и этот день стал, может быть, наиболее важным в его жизни. Лектором был Макс Брод, который был на год моложе его, таким образом они познакомились. Кафка, который в прошлом немного читал Ницше, нашел, что лектор чрезмерно сурово обошелся с философом (некоторые исследователи, придавая слишком большое значение этой скудной информации, хотели сделать из Кафки, и совершенно напрасно, ницшеанца). Брод и Кафка прошли по улицам города, споря друг с другом, и это стало началом дружбы, которой не суждено было больше прерваться.
Брод и Кафка прошли по улицам города, споря друг с другом, и это стало началом дружбы, которой не суждено было больше прерваться.
В своих письмах к Оскару Поллаку — самых ранних из сохранившихся — Кафка вначале сожалел о трудностях общения между ними: «Когда мы разговариваем вместе, слова отличаются резкостью, это все равно что идти по плохой мостовой. Наиболее тонкие вопросы внезапно уподобляются наиболее трудным шагам, и мы ничего с этим не можем поделать /…/. Когда мы разговариваем, мы стеснены вещами, которые хотим высказать, но не можем их выразить, тогда мы высказываем их так, что у нас складывается ложное представление. Мы не понимаем друг друга и даже насмехаемся друг над другом /…/. И потом есть шутка, превосходная шутка, которая заставляет горько плакать Господа Бога и вызывает в аду сумасшедший, поистине адский смех: мы никогда не можем иметь чужого Бога — только нашего /…/». А в другой раз опять: «Когда ты стоишь передо мной и на меня смотришь, что знаешь ты о моей боли и что я знаю о твоей?» И как бы переходя от одной крайности к другой, он просит в 1903 году в другом письме к Поллаку быть для него «окном на улицу».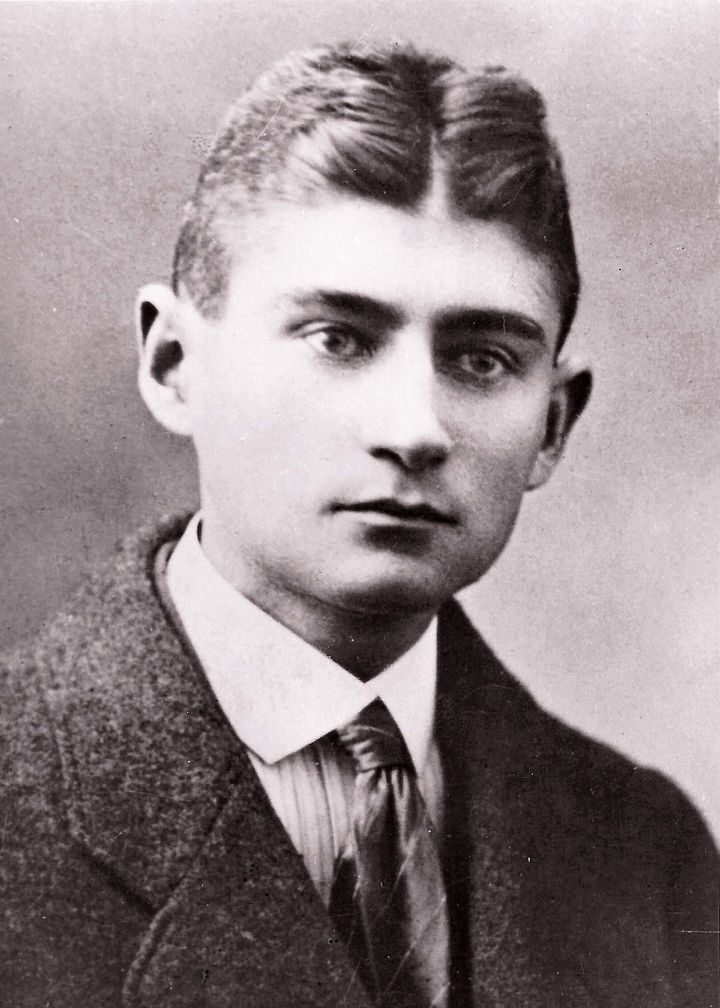 Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.
Несмотря на свой высокий рост, по его выражению, он не достигает до подоконника. И этот образ кажется ему столь верным, что он сделал его мотивом небольшого рассказа, несомненно, самого раннего из тех, которыми мы располагаем и который он назвал «Окно на улицу». Чтобы жить, он нуждается в ком-то более сильном, более мужественном, чем он. В сущности, он готовится жить по доверенности. Кафка уже устроился на обочине, в стороне от жизни или, как он скажет позднее, в пустыне, которая граничит с Ханааном.
Но Поллак покидает Прагу, вначале он едет в провинциальный замок, где работает воспитателем, потом в Рим, где займется изучением искусства барокко. И более чем на двадцать лет именно Макс Брод станет «окном на улицу», в котором нуждается Кафка. Между ними мало сходства. Брод, журналист, романист, театрал (он закончит свою жизнь в должности художественного директора театра «Хабимах» в Тель-Авиве), философ, руководитель оркестра, композитор. Он столь же экстраверт, как Кафка замкнут, столь же активен, как Кафка меланхоличен и медлителен, столь же плодовит в своем писательском труде, как Кафка требователен и не обилен в своем творчестве. Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений.
Переболевший кифозом в ранней юности, Брод был слегка искривлен, но компенсировал свой недостаток исключительной живостью. Благородный, восторженный, легко загорающийся, он постоянно должен быть занят каким-нибудь делом, и в течение жизни у него будет много разных дел. Он справедливо озаглавил свою автобиографию «Бурная жизнь», боевая жизнь. В этот период своей жизни — ему было восемнадцать лет — он был фанатичным приверженцем Шопенгауэра и следовал философии, которую называл «индифферентизмом», — из необходимости всего происходящего он выводил некое подобие универсального извинения, что позволяло не считаться с моралью. Вскоре он будет рассматривать эту доктрину как заблуждение молодости, но он исповедовал ее в то время, когда впервые встретил Кафку. И спор, который начался в тот вечер, никогда больше не закончится, потому что сколь разными они были, столь близкими друзьями они станут; они превосходно дополняют друг друга. Если никому и не придет в голову причислить Макса Брода к великим людям, надо признать наличие у него неординарного литературного чутья: с первых писательских опытов Кафки, еще неуверенных и неловких, он сумел распознать его гений. В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?
В этой столь обделенной жизни дружба Макса Брода была бесконечной удачей. Без Макса Брода имя Кафки, возможно, осталось бы неизвестным; кто может сказать, что без него Кафка продолжил бы писать?
* * *
На начало дружбы с Максом Бродом припадает для Кафки период развлечений, или, как мы бы сказали, вечеринок. Чтобы знать, как он себя вел, достаточно прочесть начало «Описания одной борьбы», так как в этих литературных дебютах сохранена дистанция, которая разделяет пережитое и вымысел. Как не узнать автопортрет или автокарикатуру в этом «качающемся шесте», на который неловко насажен «череп, обтянутый желтой кожей с черными волосами»? Это он остается сидеть один перед стаканом бенедиктина и тарелкой с пирожными, тогда как другие, более смелые, пользуются благосклонностью женщин и хвастаются своими завоеваниями. После каникул 1903 года он мог рассказать Оскару Поллаку, что набрался храбрости. Его здоровье улучшилось (в 1912 году он напишет Фелице Бауэр, что уже десять лет чувствует себя плохо), он стал сильнее, он вышел в свет, он научился разговаривать с женщинами.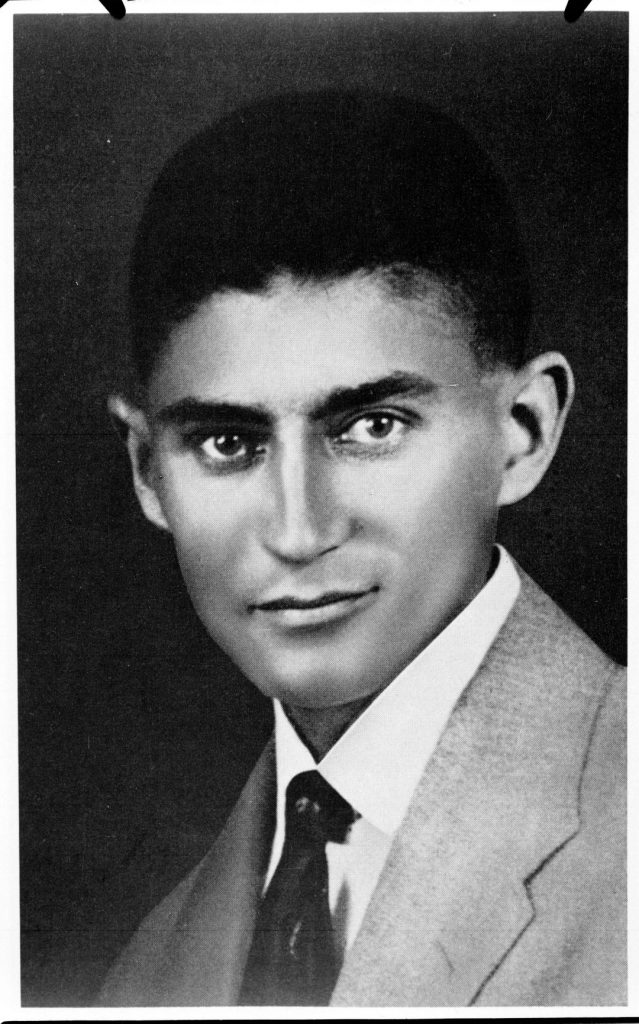 И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника’. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».
И что особенно важно, пишет он, он отказался от жизни отшельника’. «Клади свои яйца честно перед всем миром, солнце их высидит; кусай лучше жизнь, чем свой язык; можно уважать крота и его особенности, но не надо делать из него своего святого». Правда, тотчас же добавляет он, некий голос сзади вопрошает: «Так ли это в конце концов?» Он утверждает, что девушки единственные существа, способные помешать нам опуститься на дно, но немного раньше пишет Поллаку: «Я дивно счастлив, что ты встречаешься с этой девушкой. Это твое дело, она мне безразлична. Но ты с ней часто говоришь, и не только ради удовольствия говорить. Может случиться, что ты идешь с ней туда или сюда, в Росток или еще куда-нибудь, в то время как я сижу за своим письменным столом. Ты с ней говоришь, а в средине фразы возникает некто, приветствующий вас. Это я со своими плохо подобранными словами и кислым выражением лица. Это длится лишь мгновение, и ты возобновляешь разговор /…/».
Десять лет спустя, вспоминая эти первые годы юности, он пишет Фелице Бауэр: «Если бы я знал тебя уже лет восемь или десять (ведь прошлое так же достоверно, как и утрачено), мы могли бы быть счастливы сегодня без всех этих жалких уверток, вздохов и без надежных умолчаний. Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».
Вместо этого я сходился с девушками — теперь это уже далекое прошлое, — в которых легко влюблялся, с которыми было весело и которых я еще легче бросал, чем они бросали меня, не причиняя мне этим ни малейших страданий. (Множественное число не говорит об их многочисленности, оно употреблено здесь лишь потому, что я не называю имен, ведь все давно миновало)».
После своего экзамена на зрелость Кафка уехал один в небольшое путешествие к Северному морю, на Северо-Фризские острова и остров Гельголанд, он проводит каникулы в семье, часто в Либоше на Эльбе. Мы находим в «Описании одной борьбы» короткий отголосок того пребывания. Чтобы не выглядеть слишком неприветливым перед своим собеседником, восторженным влюбленным, рассказчик в свою очередь старается придумать галантные приключения: » — Однажды я сидел на скамейке на берегу реки в неудобной позе. Положив голову на руку, я смотрел на туманные горы другого берега и слышал нежную скрипку, на которой кто-то играл в прибрежной гостинице. По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.
По обоим берегам сновали поезда со сверкающим дымом.
Так говорил я, судорожно пытаясь вообразить за словами какие-то любовные истории с занятными положениями; не помешало бы и немного грубости, решительности, насилия».
В этих историях любви реальное и вымышленное странным образом перемешаны, кстати, как в жизни, так и в вымысле, и все это любовное прошлое, похоже, малоубедительно. Когда он говорит об этом в первых письмах Максу Броду, он делает это с безразличием, которое звучит неестественно: «На следующий день, — пишет он, например, — одна девушка переоделась в белое платье, потом влюбилась в меня. Она была очень несчастна, и мне не удалось ее утешить, настолько эти вещи сложны» (этот же эпизод вновь упоминается в «Описании одной борьбы»). Письмо Максу Броду продолжает: «Потом была неделя, которая рассеялась в пустоте, или две, или еще больше, Потом я влюбился в одну женщину. Потом однажды в ресторане были танцы, а я туда не пошел. Потом я был меланхоличен и очень глуп, до такой степени, что готов был спотыкаться на грунтовых дорогах». Можно сказать, что туманная завеса намеренно скрывает в полуфантастике определенную зону, на которую не осмеливаются смотреть открыто.
Можно сказать, что туманная завеса намеренно скрывает в полуфантастике определенную зону, на которую не осмеливаются смотреть открыто.
Тем временем Кафка все же пережил свой первый чувственный опыт с женщиной. Семнадцать лет спустя он подробно рассказывает об этом Ми-лене после их встречи в Вене, стараясь объяснить ей, как в нем уживаются strach и touha, страх и тоска. Дело происходит в 1903 году, через четыре года после его злополучной беседы с отцом о проблемах секса. Ему двадцать лет, и он занят подготовкой к своему первому экзамену по праву. Он замечает на тротуаре напротив продавщицу из магазина готового платья. Они подают друг другу знаки, и однажды вечером он следует за ней в гостиницу «Кляйнзайте». Уже перед самым входом он охвачен страхом: «Все было очаровательно, возбуждающе и омерзительно»; то же самое ощущение он продолжает испытывать и в гостинице: «Когда мы под утро возвращались домой по Карловому мосту, я, конечно, был счастлив, но счастье это состояло лишь в том, что моя вечно скулящая плоть наконец-то обрела покой, а самое большое счастье было в том, что все не оказалось еще более омерзительным, еще более грязным». Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел.
Он встречает во второй раз молоденькую продавщицу, и все происходит, как и в первый раз. Но затем (здесь надо проследить этот главный опыт во всех его подробностях, который так мало писателей передали столь тщательно и с подобной искренностью) он уезжает на каникулы, встречает других девушек, и с этого момента он не может больше видеть эту маленькую продавщицу, хотя хорошо знает, что она наивна и добра, он смотрит на нее как на своего врага. «Не хочу сказать, что единственной причиной наверняка не было то, что в гостинице моя подружка совершенно невинно позволила себе одну маленькую мерзость (об этом и говорить не стоит) да еще сказала одну пустячную сальность (и об этом тоже говорить не стоит), но в память это врезалось, я сразу понял, что никогда не смогу этого забыть, и понял также (или вообразил себе), что эта мерзость или сальность если не обязательно внешне, то уже внутренне очень обязательно связаны со всем происшедшим». Он знает, что в гостиницу его привлекли именно эти «ужасы», именно этого он хотел и в то же время ненавидел. Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру».
Много времени спустя он снова испытывает неукротимое желание, «желание маленькой, совершенно определенной мерзости, чего-то слегка пакостного, постыдного, грязного, и даже в том лучшем, что мне доставалось на долю, сохранялась частичка этого, некий дурной душок, толика серы, толика ада. В этой тяге есть что-то от Вечного Жида, бессмысленно влекомого по бессмысленно грязному миру».
Даже напыщенность языка подчеркивает характер запрета, который нависает отныне для него над всем, что касается секса. Заноза вонзилась в плоть. На некоторое время — в 1903, в 1904 гг. — рана остается терпимой; она еще позволяла любовные интрижки юности. Но боль будет усиливаться с каждым годом, мало-помалу она парализует всю его жизнь.
В конце «Описания одной борьбы» один из персонажей рассказа погружает себе в руку лезвие небольшого перочинного ножа. Некоторые комментаторы интерпретировали эту сцену как символическое самоубийство. Но психоаналитики, несомненно, более охотно усмотрят в ней образ кастрации.
* * *
«Я ухожу в распростершиеся бурые и меланхолические поля с оставленными плугами, поля, которые, однако, отливают серебром, когда несмотря ни на что появляется запоздалое солнце и отбрасывает мою большую тень /…/ на борозды. Заметил ли ты, как тени поздней осени пляшут на темной вспаханной земле, пляшут, как настоящие танцоры? Заметил ли ты, как земля приподнимается навстречу пасущейся корове и с каким доверием она приподнимается? Заметил ли ты, как тяжелый и жирный ком земли крошится в слишком тонких пальцах и с какой торжественностью он крошится?» Неискушенному читателю, несомненно, трудно признать автором этого отрывка Кафку. Тем не менее, это фрагмент из письма Поллаку. Точно так же год спустя стихотворение, включенное в письмо, предназначенное тому же адресату, описывает маленький занесенный снегом городок, по-новогоднему слабо освещенные домишки и посреди этого пейзажа одинокого задумавшегося человека, опершегося на перила моста. Стиль перегружен уменьшительными словами и архаизмами.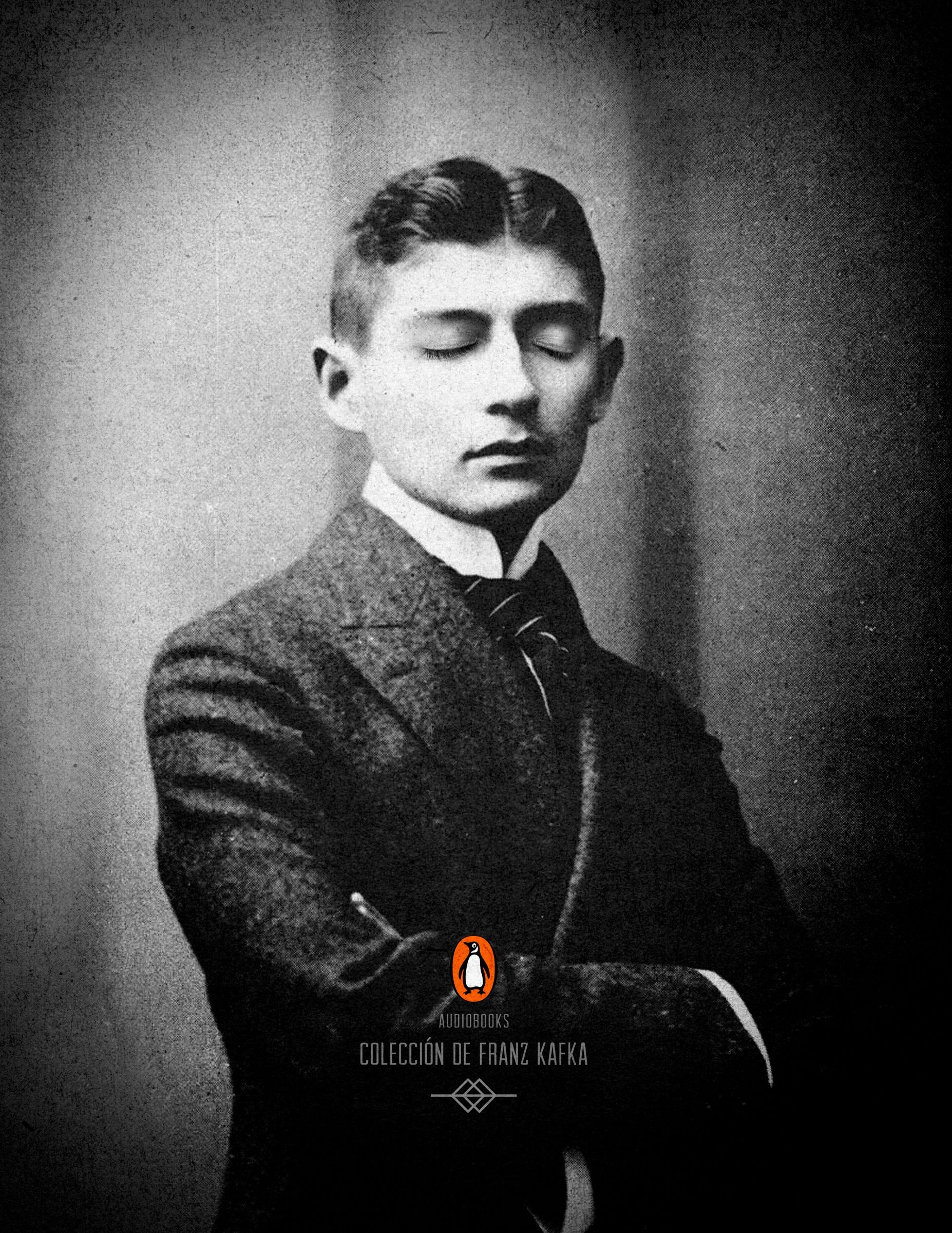 Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки.
Этот маньеризм не без основания отнесли на счет влияния «Kunstwarda», журнала искусства и литературы, который Поллак и Кафка усердно читали и подписчиками которого, по всей видимости, были. Читать «Kunstward» («Хранитель искусств») в 1902 году уже не было особенно оригинальным. Журнал выходил почти 15 лет, вначале он печатал хороших писателей, но мало-помалу переориентировался в область различных течений модернизма, натурализма, равно как и символизма. Он пришел к типу поэзии, живописующей местный колорит, пример которой предлагает письмо Кафки.
Кафка продолжает писать. В это время к тому же он ведет если не «Дневник», то по меньшей мере записную книжку. Он начал писать рано («Ты видишь, — пишет он Поллаку, — несчастье слишком рано свалилось на мою спину») и остановился, говорит он, лишь в 1903 году, когда в течение шести месяцев почти ничего больше не создал. «Бог этого не хочет, но я должен писать. Отсюда постоянные метания; в конце концов Бог берет верх, и это приносит большие несчастия, чем ты можешь себе представить». Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать.
Все тексты периода молодости были уничтожены, и не стоит гадать, что они могли собой представлять. Можно предположить только, что именно к этому периоду относятся странно неровные стихотворения, несколько образчиков которых он впоследствии включил в свои письма. Он также сообщил Оскару Поллаку, что готовит книгу, которая будет называться «Ребенок и Город». Имеем ли мы право предполагать, каким мог быть этот замысел? Предназначался ли город для подавления непосредственности ребенка, что согласовывалось с мыслями Кафки относительно педагогики? Имелась ли связь между этой исчезнувшей книгой и черновыми набросками, которые будут называться «Городской мир» или «Маленький обитатель руин»? Мы ничего об этом не знаем и лучше по сему поводу ничего не выдумывать.
Зато несомненны две вещи: первая — Кафка очень скоро откажется от своего отвратительного маньеризма; вторая ~ даже эти заблуждения молодости не были для него лишены значения. «Возвращение к земле» по-своему объясняет устойчивые элементы его натуры, которые выступают в разных формах: натурализм, вкус к физическим упражнениям и садоводству, огородничеству, склонность к умеренности в еде, враждебное отношение к медицине и к медикаментам, предпочтение «естественных» лекарств (например, герой «Замка» будет однажды назван «горькой травой» за присущие ему способности к целительству). В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания.
В комнате, которую Кафка занимал у своих родителей, очень простой, скудно обставленной, почти аскетической (типа той, что будет представлена в «Превращении»), единственным украшением была гравюра Ганса Тома под названием «Пахарь», вырезанная из «Kunstward», — такова было среда его обитания.
Существенная, поистине фундаментальная часть личности Кафки проявляется прежде всего, правда, именно в склонности к «простой жизни», которая проступает в его первых литературных опытах. Кстати, у Кафки, который столь глубоко обновит литературу, в раннем творчестве нет ничего, что роднит его с авангардом.
Десять лет спустя, когда он поедет в Веймар с Максом Бродом, он посетит Пауля Эрнста и Йоганнеса Шлафа, двух писателей, которые, отдав в свое время дань натуралистической моде, стали символами консервативной литературы. Правда, Кафка слегка поиронизирует над ними, однако при этом оказывая им уважение. Когда Макс Брод в начале их дружбы дал ему почитать отрывки из «Фиолетовой смерти» Густава Мейринка, в которых речь идет о гигантских бабочках, отравленных газах, магических формулах, превращающих чужаков в фиолетовое желе, Кафка отреагировал гримасой. Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться.
Ему не нравились, говорит нам Макс Брод, ни насилие, ни извращения; он питал отвращение — мы продолжаем цитировать Макса Брода — к Оскару Уайльду или Генриху Манну. Среди его предпочтений, сообщает все тот же Макс Брод, наряду с великими образцами, Гете, Флобером или Толстым, числились имена, менее всего ожидаемые, имена представителей умеренной, порой даже застенчивой литературы, такие как Герман Гессе, Ганс Каросса, Вильгельм Шефер, Эмиль Штраус. Но у него были другие устремления, которые не замедлят проявиться.
Когда мы переходим от 1903-го к 1904 году и от Поллака к Максу Броду, возникает впечатление, будто внезапно открываешь другого писателя. Почвенническая манерность исчезла, но на смену ей пришла другая манерность, может быть, еще более отвратительная. Пусть судит читатель: «Очень легко быть радостным в начале лета. Сердце бьется легко, шаг легок, и мы уверенно смотрим в будущее. Надеемся на встречу с восточными чудесами и одновременно отвергаем их с комическим благоговением и неловкими словесами — эта оживленная игра настраивает нас на радостный лад и вызывает дрожь. Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /…/». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен.
Мы отбросили простыни и продолжаем лежать в постели, не сводя глаз с часов. Они показывают конец утра. Но мы, мы причесываем вечер весьма блеклыми красками и бесконечными перспективами и от радости потираем себе руки, пока они не покраснеют, пока не увидим, как удлиняется и становится столь грациозно вечерней наша тень. Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой /…/». Кафка явно еще не нашел своего стиля; вскоре он так больше не будет писать. Впрочем, то, что он говорит здесь, просто и в то же время важно. Он хочет сказать, что не позволено при свете дня утверждать, что наступила ночь. Литература должна говорить правду, в противном случае она станет занятием самым пустым и одновременно наименее дозволенным. Ложный романтизм, ради удовольствия смешивающий правду и ложь и находящий удовольствие в надуманной меланхолии, возмутителен.
Давно отмечено совпадение между этими размышлениями Кафки и идеями Гуго фон Гофмансталя того же времени. В частности, в одном из своих лучших и наиболее известных произведений, озаглавленном «Письмо», а в целом носящем название «Письмо лорда Шандоса», Гофмансталь в образе английского дворянина XVII в. выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д’Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей».
выразил свои чувства в переломный момент века. Оно перенасыщено словесными излишествами тех, чью судьбу одно время он, похоже, мог разделить — д’Аннунцио, Барреса, Оскара Уайльда и др. Литература упивалась словами, она стала бесплодной и безответственной игрой. Молодой лорд Шандос утратил в этой школе смысл ценностей (значений) и одновременно вкус к письму. Он мечтает о новом языке, «на котором безмолвные вещи разговаривали бы с ним и с которым он, возможно, смог бы предстать в могиле перед неведомым судьей».
Именно этот кризис литературы пытается передать при помощи своего еще не определившегося языка Кафка. Чтобы объяснить значение выражения «говорить правду», он охотно цитирует фрагмент фразы из другого текста Гофмансталя: «Запах влажных плиток в вестибюле»; подлинное ощущение передано здесь с наибольшей экономией средств: все верно и без преувеличения говорит о восприимчивом уме. Правдивость, которая на первый взгляд наиболее близка, на самом деле достижима труднее всего, настолько она скрыта злоупотреблениями языка, поспешностью, условностями. Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века.
Гофмансталю, по мнению Кафки, удалось, по меньшей мере в данном случае, достичь правдивости. Кафка в свою очередь придумывает фразу того же рода: некая женщина на вопрос другой женщины, чем та занята, отвечает: «Я полдничаю на свежем воздухе» (буквально: «Я полдничаю на траве», но французское выражение звучит плоско и искажает смысл, к тому же в переводе невозможно передать сочность австризма jausen, что означает: слегка закусываю). Речь идет о том, чтобы отыскать утраченную простоту, вновь открыть «реальность», которую заставили забыть символический расцвет и излишества конца века.
«Мы украшаем себя в тайной надежде, что украшение станет нашей натурой», — писал Кафка Максу Броду. Новая литература как раз и должна перестать быть декоративной. Арабеска должна уступить место прямой линии. Кафка совершенно не думает о том, что в языке существует власть воображения, магическая сила, способная вызвать на свет неизвестную ранее реальность. В нем нет ничего романтического, из всех писателей он, несомненно, наиболее последовательно далек от лиризма, наиболее решительно прозаичен.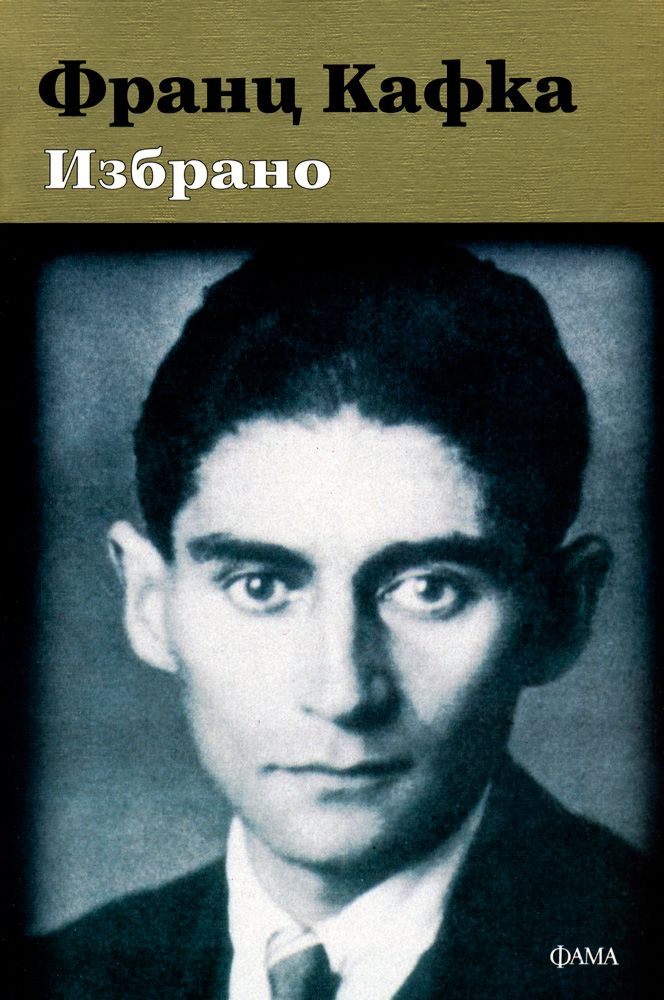 В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью.
В одном из текстов последних лет он снова повторит, что язык остается пленником своих собственных метафор, что он может изъясняться только в переносном и никогда в прямом смысле. То, что он вынашивает в своем сознании до 1904 года, гораздо менее амбициозно: он хочет найти по эту сторону от новых беспутств литературы верное ощущение, точный жест. В сущности он находится в поисках Флобера, с которым еще не знаком, но за которым последует, как только прочтет его. Он знает, в каком направлении должен идти, видит цель, к которой стремится, будучи пока не в состоянии достичь ее: язык, которым он пользуется, остается погруженным в прошлое — почти в противоречии с поставленной целью.
Тот же анализ применим и к произведению, которое было задумано и написано в эти годы, — «Описание одной борьбы». Именно благодаря Максу Броду, которому Кафка дал его прочесть и который сохранил его в ящике своего письменного стола, оно избежало огня, уничтожившего все другие произведения этого периода. Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904 — 1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля.
Его первая версия может быть с квазиточностью отнесена к последним университетским годам (1904 — 1905). Позднее, между 1907 и 1909 годами, текст будет переработан. Макс Брод считал, что произведение завершено, но нет уверенности, что он прав: в «Дневнике» еще после 1909 года мы находим фрагменты, которые, похоже, предназначались для включения в «Описание одной борьбы». Это маленькое произведение весьма сложно: кажется даже, что оно, с его нарочитой бессвязностью, внезапными переменами изображаемой перспективы, предназначено для того, чтобы привести читателя в замешательство. Это свободная рапсодия, которая, не заботясь о логике, смешивает жанры и темы. Сначала есть «борьба», борьба робкого и смелого, худого и толстого, мечтателя и деятеля.
Мы недолго задаемся вопросом, кто из двоих одержит верх, даже если в конце интроверт, более хитрый, скомпрометирует своего партнера, чья жизненная сила отягощена множеством глупостей, и заставит его сомневаться в самом себе. Но наряду с этой юмористической «борьбой», которая образует рамку повествования и в которой изобилуют автобиографические моменты, есть много абсолютно вымышленных событий, например история, как бы взятая из символического рассказа о «толстяке», очевидно, тучном китайце, которого носят в паланкине и который утопится в реке. Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями.
Есть также разбросанная в разных эпизодах сатира на плохую литературу, начало чему положено еще в письме 1904 года Максу Броду. Плохой писатель тот, кто нарекает «Вавилонскую башню» или Ноя, когда тот был пьян, тополем полей, полагая, что для изменения мира достаточно слов и что роль письма состоит в замещении реальности воображением. Недостаточно назвать луну «старым бумажным фонарем» и назвать «луной» колонну Девы Марии, чтобы мир повиновался фантазии автора. «Описание одной борьбы» выступает против фривольности, глупого кокетства, лжи, которые завладели литературой. Но в то же время это наиболее причудливое, наиболее манерное произведение, более всего отмеченное вкусом эпохи, против которого оно направлено. Таков парадокс этого сочинения юности. Вскоре Кафка пойдет другими путями.
Вегетарианство Франца Кафки | Вегетарианский.ru
«Теперь я могу смотреть на вас с миром. Я вас больше не ем» — произнес однажды гений немецкой литературы Франц Кафка (1883-1924), глядя на рыб в аквариуме. Эта фразу, сказанную в присутствии Эльзы Брод и задокументированную в дальнейшем, можно найти почти на всех вегетарианских ресурсах.
Эта фразу, сказанную в присутствии Эльзы Брод и задокументированную в дальнейшем, можно найти почти на всех вегетарианских ресурсах.
В то же время о вегетарианстве самого писателя информации на отечественных порталах очень мало. Мы решили исправить этот недочет и перевести на русский язык фрагменты доклада Jan Stastny на Всемирном вегетарианском конгрессе в Дрездене (2008 год).
Исследователи по крупицам собирали эту информацию в письмах Кафки близким. Особенно ценными оказались материалы составителя его биографии — Макса Брода.
Франц Кафка: краткая биография
Кафка — автор немецкоязычных романов-шедевров «Америка», «Замок», «Процесс», знаменитого рассказа «Превращение» и многих других произведений, большей частью опубликованных после смерти писателя.
Созданная Францем художественная реальность напоминает магический кристалл, не являющийся отдельным миром, но потенциально содержащий в себе все миры.
Родился Кафка в Австро-Венгрерской империи, часть которой ныне относится к Чехии, в еврейской семье торговца-галантерейщика и дочери пивовара (1883 г). Кафка писал на немецком, но в совершенстве знал и чешский язык.
Кафка писал на немецком, но в совершенстве знал и чешский язык.
Успешно учился, закончил Пражский университет со степенью доктора права, после чего поступил на государственную службу, где и проработал юристом всю свою жизнь. Но работу не очень любил, находя отдушину в литературе, написании рассказов и романов.
С детства писатель обладал слабым здоровьем, а в 1917 г. заболел туберкулезом, который тогда не лечился и от которого он умер 7 лет спустя.
Помимо болезненности его характеризовала аскетичность. Не все распознавали сразу, насколько многогранен внутренний мир этого человека. Своими братьями по духу Кафка считал Гюстава Флобера, Франца Грильпарцера, Фёдора Достоевского и Генриха фон Клейста.
Жизнь и творчество Франца Кафки были весьма неординарными.
Вегетарианство Кафки: растительная пища принесла облегчение
Кафка стал вегетарианцем уже во второй половине своей рано оборвавшейся жизни. Возможно, это произошло в 1909 году или чуть раньше. Он имел проблемы с пищеварением и однажды понял, что растительная пища несет облегчение. Вероятно, это обращение к вегетарианской пище диктовалось советами его дяди-врача Зигфрида Леви.
Возможно, это произошло в 1909 году или чуть раньше. Он имел проблемы с пищеварением и однажды понял, что растительная пища несет облегчение. Вероятно, это обращение к вегетарианской пище диктовалось советами его дяди-врача Зигфрида Леви.
Но взгляды Кафки стали более последовательными после знакомства в 1911 году с Морисом Шнайцером – известным активистом вегетарианского движения в Европе, основателем «Союза природного исцеления» в 1894 г. Советы Мориса Шнайцера (есть только растительную пищу, много гулять, спать с открытым окном и работать в саду) были восприняты Кафкой как руководство к действию – он даже ходил после работы помогать одному из пражских садовников. И это, наверное, единственный случай, когда подсобным рабочим у садовника работал дипломированный юрист!
О вегетарианстве Кафки позднее появилось несколько газетных заметок. Так, в газете «Prager Tagblatt» в июне 1918 были написаны 3 статьи. В одной из них, посвященной немецким писателям в Праге, было следующее: «Франц Кафка, получивший премию «Fontane Award» за его рассказы «Stoker» и «Metamorphosis», недавно купил садовый участок в районе Deutschböhmen, где он хочет проводить больше времени на природе, следуя своей философии вегетарианства».
Попытки изменить окружение
Бауэр и Кафка
Новый образ жизни, к которому обратился Франц Кафка, позволили ему исцелиться от привычных недугов, он креп, что замечали его друзья. Как и многим вегетарианцам, ему не раз приходилось сталкиваться с непониманием близких. В переписке с возлюбленной Фелицей Бауэр он обсуждает эту волнующую его проблему: «Если бы было в Ваших силах изменить свой образ жизни, я был бы очень благодарен». Далее, объясняя Фелице, что он ест и почему, добавляет: «Никакая другая диета не бодрит меня так, как эта».
В это же время Макс Брод, близкий друг писателя, пишет Фелице: «Франц после долгих поисков, наконец, нашел диету, которая действует хорошо, и это вегетарианская диета. Он страдал от болезни желудка в течение многих лет, а теперь он такой здоровый и свежий, как никогда раньше …. Но сейчас родители пытаются заставить его есть мясо снова».
Кафка был активным сторонником вегетарианства и часто пытался склонять к нему людей, иногда делая это достаточно напористо.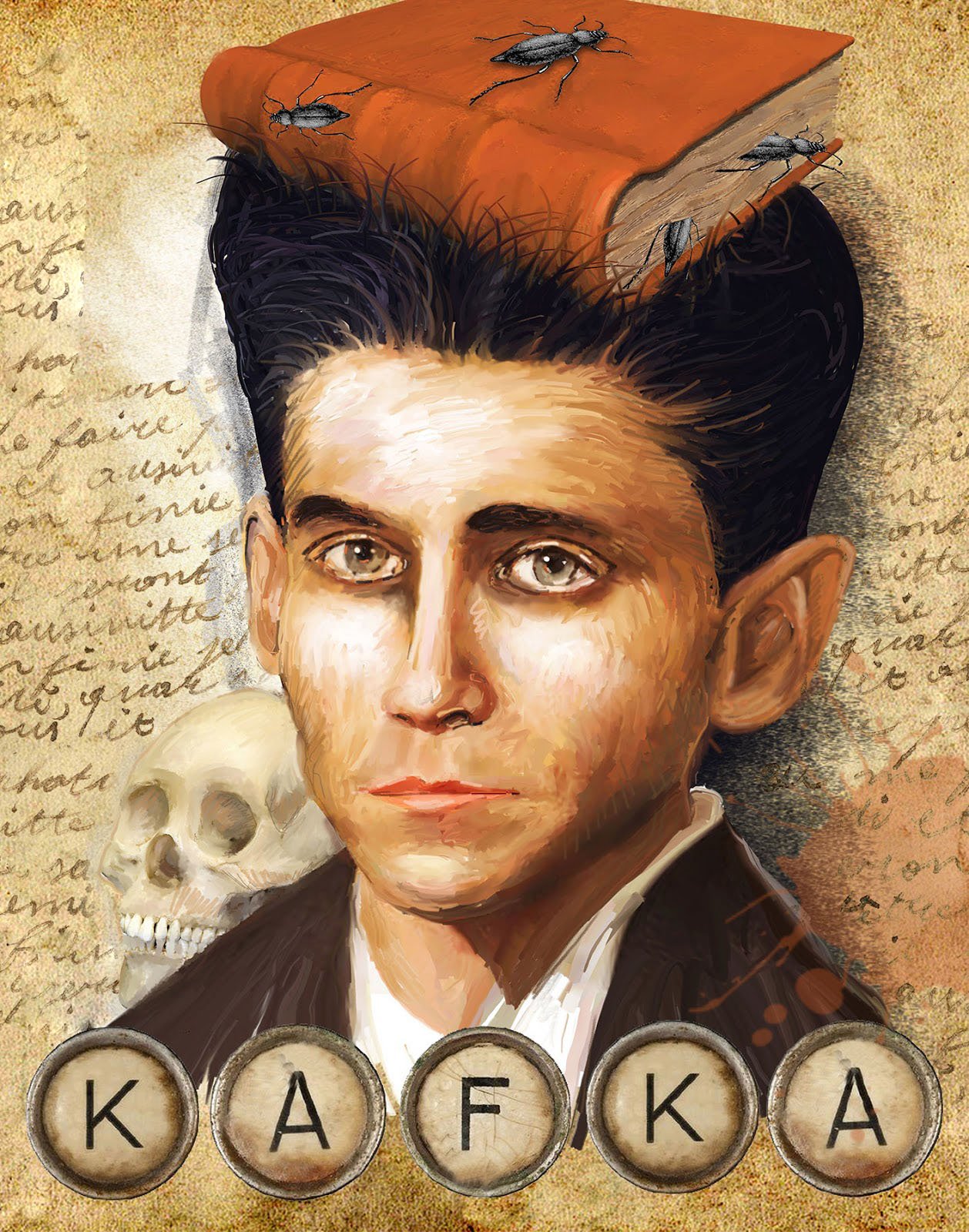 В письме своему другу Грете Блох он пишет: «Дорогая мисс Блох, как последователь естественного исцеления не удивлен, что у вас головные боли, но как друг сожалею об этом! Не могли бы вы начать с самого простого изменения в вашей жизни — с вегетарианской диеты? Мясо настолько опустошает ваше ужасно уставшее тело. Тем не менее, есть вегетарианский ресторан на улице Opolzer возле театра Хофбург, лучший, который я знаю. …. Нет сомнений, что вы будете есть там лучше и с большей радостью (но возможно не в первые дни), вы будете чувствовать себя более свободной и сильной, вы будете лучше спать и просыпаться свежей.
В письме своему другу Грете Блох он пишет: «Дорогая мисс Блох, как последователь естественного исцеления не удивлен, что у вас головные боли, но как друг сожалею об этом! Не могли бы вы начать с самого простого изменения в вашей жизни — с вегетарианской диеты? Мясо настолько опустошает ваше ужасно уставшее тело. Тем не менее, есть вегетарианский ресторан на улице Opolzer возле театра Хофбург, лучший, который я знаю. …. Нет сомнений, что вы будете есть там лучше и с большей радостью (но возможно не в первые дни), вы будете чувствовать себя более свободной и сильной, вы будете лучше спать и просыпаться свежей.
Макс Брод и Кафка
«Я желаю вам испытать это». Когда же мисс Блох пожаловалась на зубную боль на ветру, Кафка, заключил, что она не хочет помочь себе: «Вы не были в ресторане на улице Opolzer, и вы не собираетесь туда даже сейчас, в сезон свежих овощей». Излишнее усердие в убеждении окружающих – Кафка повторял все ошибки начинающих вегетарианцев.
Растительная диета помогла продлить ему жизнь. Статистика тех лет свидетельствует, что 40% заболевших туберкулезом умирали в течение года, и еще 50% — в первые пять лет болезни. Кафка прожил семь лет и это были насыщенные годы творчества и любви. Более того, в 1918 году он легко перенес «испанку» — грипп, от которого умерло почти 100 миллионов людей.
Вегетарианство по Кафке – образ жизни интеллектуалов
Позднее Кафка утверждал, что вегетарианский стиль жизни — единственный этически приемлемый для интеллектуала.
Писатель много внимания уделял этической стороне вопроса, считая, что интеллектуально развитый человек, осознающий проблему убийства животных, задумается о вегетарианстве. Об этом косвенно говорят и его произведения, героями которых часто становятся разные животные: от жуков до обезьян.
В рассказе «Отчет для Академии» (1917 г.) глазами взятой в плен обезьяны человек показан довольно нелицеприятно со всеми его пороками, хотя единственный выход для пленника самому стать человеком.
Символичен короткий рассказ «Старинная запись», в котором потерявшие человеческий облик воины-кочевники пожирают мясо вместе со своими конями, рвут на куски еще живого быка.
Завещания
Франц Кафка умер в санатории в июне 1924 года. Про одно завещание Кафки хорошо известно – он велел Максу Броду сжечь все оставшиеся после него рукописи. И мы можем только благодарить его верного друга за ослушание.
Было и другое неформальное завещание, а точнее договоренность с сестрой Оттлой отказаться от мяса, если врачи будут заставлять его питаться мясной пищей. В отличие от Брода, Оттла сдержала обещание, данное брату, и до своей смерти в концентрационном лагере оставалась вегетарианкой.
К сожалению медицина тех лет не смогла его спасти, да и Кафка этого уже не хотел. Но для многих людей современности важна и жизненно необходима квалифицированная медицинская помощь. Вы можете пройти кардиологическое обследование в Мюнхене (Германия), это то что поможет диагностировать болезнь в зачатке.
Эта статья подготовлена по материалам доклада Jan Stastny на Всемирном вегетарианском конгрессе в Дрездене (2008 год).
Автор перевода: Анна Озерова
© 2020 vegetarianskij.ru
Все права защищены. Использование материалов сторонними ресурсами только с активной индексируемой ссылкой на сайт.
Кафка Ф. биография 👍 | Школьные сочинения
Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в еврейской семье, жившей в районе Йозефов, бывшем еврейском гетто города Прага. Его отец – Герман Кафка (1852-1931), родом из чешскоязычной еврейской общины в Южной Чехии, с 1882 г. торговал галантерейными товарами оптом. Мать – Юлия Кафка (урожденная Этл Леви) (1856-1934), дочь зажиточного пивовара – предпочитала немецкий язык.
Сам Кафка писал по-немецки, хотя чешский знал также прекрасно. Также он хорошо владел французским, и среди четырех людей, которых писатель, “не претендуя сравниться с ними в силе и разуме”,
ощущал “своими кровными братьями”, был французский писатель Гюстав Флобер. Остальные три: Франц Грильпарцер, Федор Достоевский и Генрих фон Клейст.
Остальные три: Франц Грильпарцер, Федор Достоевский и Генрих фон Клейст.Будучи евреем, Кафка тем не менее практически не владел идишем и стал проявлять интерес к традиционной культуре восточно-европейских евреев только в двадцатилетнем возрасте под влиянием гастролировавших в Праге еврейских театральных трупп; интерес к изучению иврита возник только к концу жизни.
У Кафки было два младших брата и три младших сестры. Оба брата, не достигнув и двухлетнего возраста, скончались до того, как Кафке исполнилось 6 лет. Сестер звали Элли, Валли и Оттла (все три погибли во время Второй мировой войны в нацистских концентрационных лагерях в Польше).
В период с 1889 по 1893 гг. Кафка посещал начальную школу (Deutsche Knabenschule), а потом гимназию, которую закончил в 1901 году сдачей экзамена на аттестат зрелости. Закончив Пражский Карлов университет, получил степень доктора права (руководителем работы Кафки над диссертацией был профессор Альфред Вебер), а затем поступил на службу чиновником в страховом ведомстве, где и проработал на скромных должностях до преждевременного – по болезни – выхода на пенсию в 1922 г.
Работа для писателя была занятием второстепенным и обременительным: в дневниках и письмах он буквально признается в ненависти к своему начальнику, сослуживцам и клиентам. На первом же плане всегда была литература, “оправдывающая все его существование”. В 1917 после легочного кровоизлияния завязался долгий туберкулез, от которого писатель умер 3 июня 1924 года в санатории под Веной.
Метафизика Франца Кафки, или Ужас вместо трагедии
Франц Кафка и его герой
Первый сборник Кафки мы получили как результат хрущевской оттепели в 1965 году (тираж не указан). В проезде Художественного театра стояли в советское время книжные барыги. У них были дефицитные книги, продававшиеся за немалые тогда деньги. В том году вышел большой том Кафки на русском, где был великий роман «Процесс», да еще в переводе Риты Райт-Ковалевой. Помимо «Процесса» там было два классических текста — «Превращение» и «В исправительной колонии». Не говорю уж о двух десятках великих новелл и притч. Эта книга вдруг изменила мое восприятие литературы, да и собственного писания. Я перестал бояться собственных мыслей и сновидческих образов, казавшихся до той поры порождением моего неправильного, не такого сознания.
Эта книга вдруг изменила мое восприятие литературы, да и собственного писания. Я перестал бояться собственных мыслей и сновидческих образов, казавшихся до той поры порождением моего неправильного, не такого сознания.
Нас тогда учили, что классическому реализму противостоят три монстра: Пруст, Кафка и Джойс. Очень они были разные, но для советского человека равно враги. И вот Кафка в моих руках! Уже много-много лет спустя попав в Прагу, переживая ее красоту, я все же каждый раз со странным ощущением подходил к местам, связанным с Кафкой: памятником ему, магазинчиком, где торговали его книгами, кафе его имени и т.д. Сновидческий реализм гения словно размывался реальностью кафе, портретов и фотографий писателя, десятками его книг на разных языках, что невероятное делало обиходным. И тем не менее мир Кафки продолжал свое существование. Существование необычное, по-прежнему затрагивающее всю душу умеющего чувствовать и думать читателя. Гашек, Чапек, Кундера, Майринк — кого можно поставить рядом?. . Страшный Голем, нашествие на мир саламандр — и все же именно «Превращение» и «Процесс» с первых строк погружают нас в другой мир. Разве что Швейк поднимается до уровня мировых образов. У Кафки нет таких образов, у него проникновение в суть мира, который по давнему слову «во зле лежит», о чем мы не хотим думать, чтобы не умереть от ужаса. А Кафка думал и чувствовал, передавая свое мирочувствие очень простыми словами.
. Страшный Голем, нашествие на мир саламандр — и все же именно «Превращение» и «Процесс» с первых строк погружают нас в другой мир. Разве что Швейк поднимается до уровня мировых образов. У Кафки нет таких образов, у него проникновение в суть мира, который по давнему слову «во зле лежит», о чем мы не хотим думать, чтобы не умереть от ужаса. А Кафка думал и чувствовал, передавая свое мирочувствие очень простыми словами.
На фоне кафе «Кафка»
В предисловии к опубликованному советскому сборнику объяснялось, что Кафка чужд нашей эпохе, что талант его болезненный, что он не понял своего времени, не верил в человека, боялся жизни и -далее я цитирую: «замыкался в собственной личности, глубже и глубже погружаясь в самосозерцание, которое мешало ему увидеть полноту жизни, многоцветность мира, где господствуют не только сумрачные тона, но сияют цвета надежды и радости» [1]. Между тем, практически все великие писатели ХХ века признали этого странного пражского еврея, не дописавшего до конца ни одного своего романа, величайшим писателем этого столетия. Сошлюсь хотя бы на Элиаса Канетти, называвшего Кафку «писателем, который полнее всех выразил наше столетие и которого я поэтому ощущаю как его самое характерное проявление» [2]. Но аргументации советских литературоведов всегда шли не от сути дела, являясь как раз порождением того мира, который и описывал Кафка, мира, рационализированного безумия, противоречащего здравому смыслу. За красивыми словами о многоцветности скрывался, по сути, страх перед Кафкой, скрывалась боязнь нарушить свой душевный уют, потревожить себя чужими бедами, которые, при ближайшем рассмотрении, не дай Бог, могут обернуться своими. Любопытно, что в перверсном виде советская наука о литературе все же констатировала факт восприятия Кафки в мире, факт, о котором писала Ханна Арендт, заметившая, что для Кафки очень характерно, что самые разные «школы» стремятся притянуть его к себе в предшественники; похоже, никто из тех, кто считает себя «модернистом», не смог пройти мимо его творчества.
Сошлюсь хотя бы на Элиаса Канетти, называвшего Кафку «писателем, который полнее всех выразил наше столетие и которого я поэтому ощущаю как его самое характерное проявление» [2]. Но аргументации советских литературоведов всегда шли не от сути дела, являясь как раз порождением того мира, который и описывал Кафка, мира, рационализированного безумия, противоречащего здравому смыслу. За красивыми словами о многоцветности скрывался, по сути, страх перед Кафкой, скрывалась боязнь нарушить свой душевный уют, потревожить себя чужими бедами, которые, при ближайшем рассмотрении, не дай Бог, могут обернуться своими. Любопытно, что в перверсном виде советская наука о литературе все же констатировала факт восприятия Кафки в мире, факт, о котором писала Ханна Арендт, заметившая, что для Кафки очень характерно, что самые разные «школы» стремятся притянуть его к себе в предшественники; похоже, никто из тех, кто считает себя «модернистом», не смог пройти мимо его творчества. Правда сама Аренд резко протестует против этого: «Это тем более удивительно, что Кафка, в отличие от других модернистских авторов, держался поодаль от всех экспериментов и всякой манерности стиля. Язык его так же прост и прозрачен, как обиходный, только очищен от неряшливости и жаргона» [3].
Правда сама Аренд резко протестует против этого: «Это тем более удивительно, что Кафка, в отличие от других модернистских авторов, держался поодаль от всех экспериментов и всякой манерности стиля. Язык его так же прост и прозрачен, как обиходный, только очищен от неряшливости и жаргона» [3].
Но Кафка все же не случайно оказался в зоне внимания мировой культуры XX века, ощутившей свою эпоху как самую трагическую в истории человечества (а точнее — отменяющей любую трагедию, превосходящим ее ужасом, ибо, как заметил Ст. Лем, для трагического противостояния личности окружающему миру в лагерях Освенцима просто места не было). Имя Кафки как бы окормляло литературные течения прошлого века, чувствовавшие, что Кафка проник в некую суть происходящего. Он увидел главное событие эпохи, увидел, что дьявол перестал бороться за одну единственную душу. Мир стал дьявольским водевилем: прошлое (и такое недавнее) столетие — время больших цифр, время ужаса, когда, как писал Юнгер, «жертвы приносятся в морально нейтральной зоне; ведется лишь их статистический учет» [4]. Обозначу сразу противостояние этих двух понятий — трагедии и ужаса. Далее об этом пойдет речь.
Обозначу сразу противостояние этих двух понятий — трагедии и ужаса. Далее об этом пойдет речь.
Считать Кафку далеким от наших проблем — значит утверждать, что нас миновали кошмары и катаклизмы ХХ века. Хотя, надо сказать, русские мыслители одними из первых заметили победоносный прорыв адских сил. В 1918 г. Евгений Трубецкой написал: «На наших глазах ад утверждает себя как исчерпывающее содержание всей человеческой жизни, а стало быть, и всей человеческой культуры. <…> Наш русский кровавый хаос представляет собою лишь обостренное проявление всемирной болезни, а потому олицетворяет опасность, нависшую надо всеми. <…> Россия — страна христианская по вероисповеданию. Но что такое это людоедство, господствующее в ее внутренних отношениях, эта кровавая классовая борьба, возведенная в принцип, это всеобщее человеконенавистничество, как не практическое отрицание самого начала христианского общежития, более того, — самой сути религии вообще!» [5]
То, что предрекал Достоевский, говоря о совершающемся «убийстве Бога», то, что констатировал следом за ним Ницше, заявляя, что «Бог умер», стало вдруг исторической и повседневной реальностью. Перепад от спокойствия европейской жизни к катастрофическому бытию зафиксировал и Семен Франк: «На место прежней, хотя с абсолютной точки зрения бессмысленной, но относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала по крайней мере возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости — жизнь, как сущий ад» [6]. Фантастический реализм Кафки выглядит почти описательным по отношению к нашей действительности тридцатых годов. В своем повествовании «Вишера» (которое сам автор обозначил как антироман) Варлам Шаламов констатировал: «Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал» [7].
Перепад от спокойствия европейской жизни к катастрофическому бытию зафиксировал и Семен Франк: «На место прежней, хотя с абсолютной точки зрения бессмысленной, но относительно налаженной и устроенной жизни, которая давала по крайней мере возможность искать лучшего, наступила полная и совершенная бессмыслица, хаос крови, ненависти, зла и нелепости — жизнь, как сущий ад» [6]. Фантастический реализм Кафки выглядит почти описательным по отношению к нашей действительности тридцатых годов. В своем повествовании «Вишера» (которое сам автор обозначил как антироман) Варлам Шаламов констатировал: «Шел июль тридцать седьмого года. Судьба наша уже решилась где-то вверху, и, как в романах Кафки, никто об этом не знал» [7].
Не признавать значение Кафки даже как-то и неловко сегодня. «Кафка — один из самых великих авторов всей мировой литературы, — писал великий аргентинец Хорхе Луис Борхес. — Для меня он первый в нашем веке» [8]. Но, стало быть, повторим это, он и открыл новые художественные смыслы нового века, так резко изменившего образ жизни человеческого общества. Что же это за смыслы? И прежде всего, кто герой его прозы? Ведь именно появление нового типа героя каждый раз обозначало поворот в литературе: скажем, на смену сентименалистскому шел герой романтический и т.д. Здесь же, как мне кажется, смена была более решительной.
Что же это за смыслы? И прежде всего, кто герой его прозы? Ведь именно появление нового типа героя каждый раз обозначало поворот в литературе: скажем, на смену сентименалистскому шел герой романтический и т.д. Здесь же, как мне кажется, смена была более решительной.
Кто же герой Кафки? Можно не придавать такого значения ономастике, как Флоренский, но, безусловно, что имя героя много значит для писателя. Уже Левин в «Анне Карениной», разумеется, корреспондировал с именем автора — Лев Толстой. А все герои Германа Гессе, являвшиеся авторским вторым Я, имеют начальные буквы имени писателя: Ганс Гибенрат («Под колесами»), Гарри Галлер («Степной волк») и т.д. Конечно же, созвучны «Шолохов» и «Мелехов». И т.д. У Кафки эта параллель вполне осознанна. Рассуждая в дневниках о герое рассказа «Приговор», Кафка, пишет: «Имя “Георг” имеет столько же букв, сколько “Франц”. В фамилии “Бендеманн” окончание “манн” — лишь усиление “Бенде”, предпринятое для выявления всех еще скрытых возможностей рассказа. “Бенде” имеет столько же букв, сколько “Кафка”, и буква “е” расположена на тех же местах, что и “а” в “Кафка”» [9].
“Бенде” имеет столько же букв, сколько “Кафка”, и буква “е” расположена на тех же местах, что и “а” в “Кафка”» [9].
В «Процессе» главный герой — Йозеф К., в «Замке» — просто «К.». В этом «К.» явственно слышится намек на начальную букву фамилии писателя. Но именно намек. Вы можете отождествить героя и автора, а можете увидеть в этом «К.» некое намеренное абстрагирование от живой конкретики, перенесение действия в философическое пространство, где здесь и сейчас равнозначны везде и всегда. Но эта двойственность (автобиографизм и абстрагирование) заставляет читателя испытать духовную сопричастность автору, отделяя его тем не менее от героя, она создает художественный эффект, позволяющий проникнуть в то будущее, которое наступает, но еще не обрело плоти. Камю заметил: «В “Процессе” герой мог бы называться Шмидтом или Францем Кафкой. Но его зовут Йозеф К. Это не Кафка, и все-таки это он. Это средний европеец, ничем не примечательный, но в то же время некая сущность К. » [10]. Но именно поэтому мы, люди обычные, отождествляем себя с героями Кафки. По словам Ханны Арендт, читая Кафку, «нам кажется, будто окликнули и позвали каждого из нас» [11].
» [10]. Но именно поэтому мы, люди обычные, отождествляем себя с героями Кафки. По словам Ханны Арендт, читая Кафку, «нам кажется, будто окликнули и позвали каждого из нас» [11].
Не случайно в знаменитой скульптуре Кафки, поставленной в Праге, отсутствует лицо. Это человек из прозы Кафки. Как бы автор сидит на плечах безликого человека.
Возможно, это было ощущение времени, достаточно вспомнить безликие портреты людей, сделанные Малевичем. Ясно, что это человеки, но столь же возможно, что это существа из другого пространства. ХХ век думал не о лица необщем выраженьи, а о количестве безликой человеческой массы. Это конструкты Фернана Леже и т.п. Но Малевич характернее.
Казимир Малевич «Три женских фигуры». Начало 1930-х, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
Однако было бы безумием и нелепостью отождествлять героя и автора. Кафка, а не его герой, как писал тот же Камю, ведет процесс по делу обо всей вселенной. Хотя он сидит на плечах своего героя. Означенная близость говорит лишь о тонких духовных симпатиях связывающих творца и его творение. Эта связь отчасти лирическая, но сохраняющая отстраненность взгляда. Похож, да не очень. Вальтер Беньямин, на мой взгляд, точнее многих определил специфику кафкинских героев (да и наиболее близко к моей проблеме), так что грех было бы не воспользоваться его определением: «Индивидуум, «сам не знающий совета и не способный дать совет», наделен у Кафки, как, пожалуй, ни у кого прежде, бесцветностью, банальностью и стеклянной прозрачностью заурядного, среднего человека. До Кафки еще можно было полагать, что растерянность романного героя есть проявление какого-то его особого внутреннего склада, его слабости или его особой сложности. И лишь Кафка ставит в центр романа именно такого человека, на которого ориентирована вся народная мудрость, — тихого, скромного, благонамеренного, человека, которого пословица всегда снабдит добрым советом, а старые люди — добрым словом утешения. И уж если так получается, что этот хороший по задаткам человек то и дело из одной неприятности попадает в другую, то вряд ли в этом виновата его природа» [12].
Означенная близость говорит лишь о тонких духовных симпатиях связывающих творца и его творение. Эта связь отчасти лирическая, но сохраняющая отстраненность взгляда. Похож, да не очень. Вальтер Беньямин, на мой взгляд, точнее многих определил специфику кафкинских героев (да и наиболее близко к моей проблеме), так что грех было бы не воспользоваться его определением: «Индивидуум, «сам не знающий совета и не способный дать совет», наделен у Кафки, как, пожалуй, ни у кого прежде, бесцветностью, банальностью и стеклянной прозрачностью заурядного, среднего человека. До Кафки еще можно было полагать, что растерянность романного героя есть проявление какого-то его особого внутреннего склада, его слабости или его особой сложности. И лишь Кафка ставит в центр романа именно такого человека, на которого ориентирована вся народная мудрость, — тихого, скромного, благонамеренного, человека, которого пословица всегда снабдит добрым советом, а старые люди — добрым словом утешения. И уж если так получается, что этот хороший по задаткам человек то и дело из одной неприятности попадает в другую, то вряд ли в этом виновата его природа» [12].
Трагический герой всегда выламывался из народа, из коллектива, здесь герой — неотличим от народа и, стало быть, перед нами принципиально иная ситуация. Конечно, сам Кафка был другим. Сам Кафка отнюдь не походил на своих героев, он не был «человеком без свойств». Он был человеком страсти — увидеть, понять, записать. «Узником абсолюта» назвал его Макс Брод, который писал: «Святость — единственное правильное слово, которым можно оценить жизнь и работу Кафки. <…> Кафка не применял к себе обычных человеческих стандартов — он оценивал себя с точки зрения конечной цели человеческого бытия. И это во многом объясняет его нежелание публиковать свои работы» [13].
Но этот святой попал в совершенно новую историческую и культурную ситуацию, принципиально новую. И, быть может, именно позиция святости позволила ему абсолютно честно осознать эту новизну. В чем же она заключалась, как это видится по прошествии некоторого времени?
Хронотоп
Бахтин ввел в российскую науку понятие хронотопа, которое с успехом заменило старые рассуждения о социально-историческом пребывании художника, мыслителя или проблемы.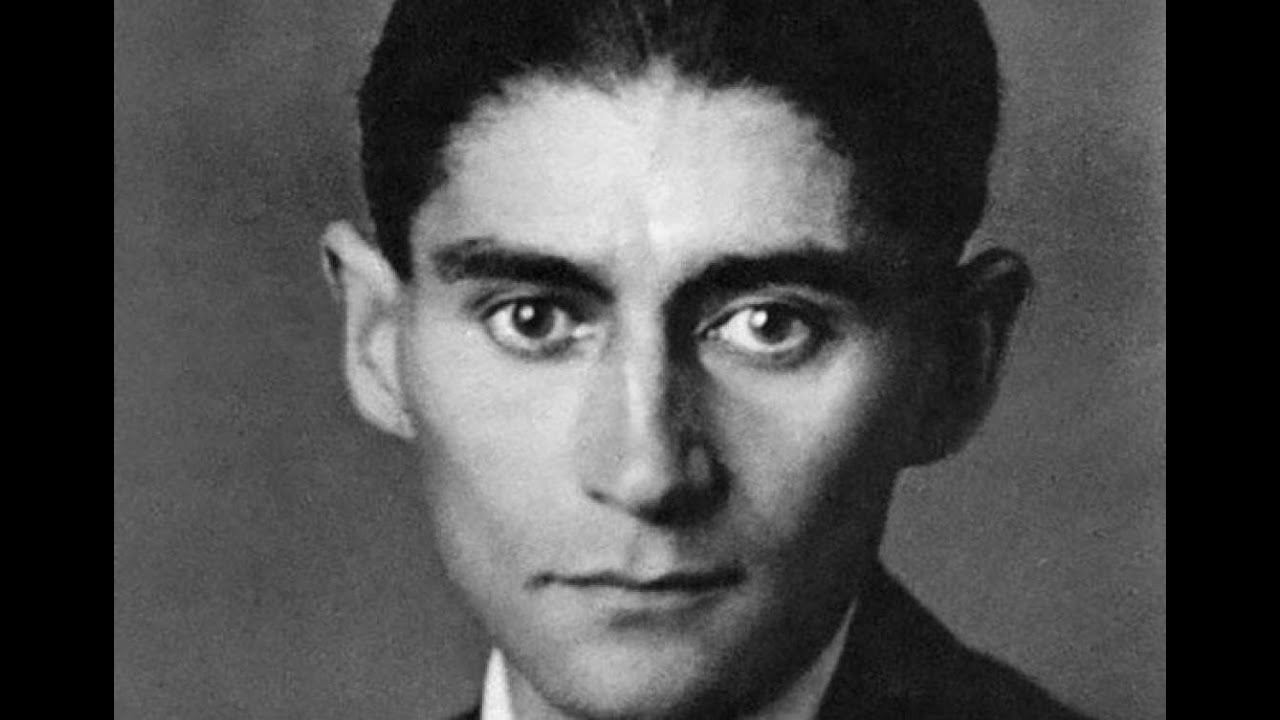 Итак, каков хронотоп нашего героя и нашей проблемы?.. Хронос — это начало ХХ века, а топос — распадающаяся и затем с успехом распавшаяся Австро-Венгрия. ХХ век — удивительный. Один из самых страшных, но и самых великих. Такого количества творцов самого высшего разбора не знала ни одна эпоха, включая и эпоху Возрождения. Изменился состав мира, и это потребовало осмысления, изображения, отражения. Распадались с большим треском великие империи — в начале века две, во всяком случае: Российская и Австро-Венгерская. Перечислять имена великих по всему миру за этот период было бы бесплодным занятием, но вот осознать контекст, в котором творил Кафка, было бы существенно для осознания нашей проблемы. Я назову только пять имен соотечественников писавшего по-немецки пражского еврея: это Райнер Мария Рильке, это Зигмунд Фрейд, это Людвиг Витгенштейн, это Элиас Канетти, это Роберт Музиль. При этом надо учитывать языковую, культурную и политическую близость Германии и ее мыслителей и художников — Томаса Манна, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и очень многих других.
Итак, каков хронотоп нашего героя и нашей проблемы?.. Хронос — это начало ХХ века, а топос — распадающаяся и затем с успехом распавшаяся Австро-Венгрия. ХХ век — удивительный. Один из самых страшных, но и самых великих. Такого количества творцов самого высшего разбора не знала ни одна эпоха, включая и эпоху Возрождения. Изменился состав мира, и это потребовало осмысления, изображения, отражения. Распадались с большим треском великие империи — в начале века две, во всяком случае: Российская и Австро-Венгерская. Перечислять имена великих по всему миру за этот период было бы бесплодным занятием, но вот осознать контекст, в котором творил Кафка, было бы существенно для осознания нашей проблемы. Я назову только пять имен соотечественников писавшего по-немецки пражского еврея: это Райнер Мария Рильке, это Зигмунд Фрейд, это Людвиг Витгенштейн, это Элиас Канетти, это Роберт Музиль. При этом надо учитывать языковую, культурную и политическую близость Германии и ее мыслителей и художников — Томаса Манна, Мартина Хайдеггера, Эрнста Юнгера и очень многих других.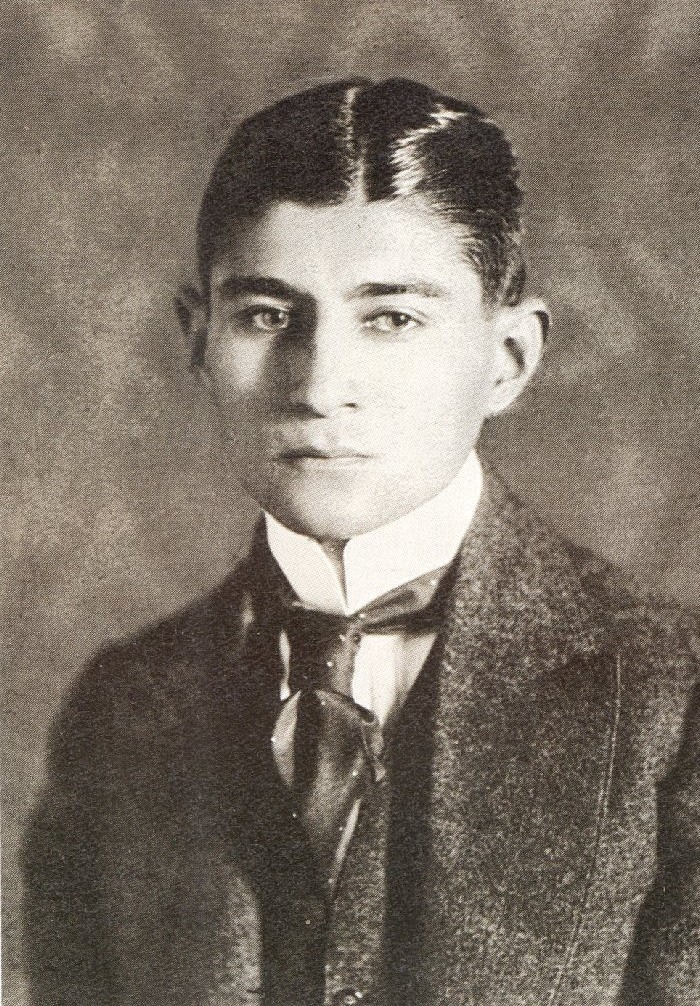 Не забудем и того, что человек, изменивший судьбу Западной Европы — Адольф Гитлер — тоже родом из Австро-Венгрии.
Не забудем и того, что человек, изменивший судьбу Западной Европы — Адольф Гитлер — тоже родом из Австро-Венгрии.
Быть может, основой прозрений Франца Кафки послужила ситуация распада империи?.. Ведь было же сказано: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Но в творчестве Кафки трудно найти мотив, который отсылал бы нас к этому историческому процессу. Безумие распада Австро-Венгерской империи изобразил совсем другой художник. Я имею в виду Гашека и его блистательные «Похождения бравого солдата Швейка». Степень безумия достаточно ясна из вердикта официальных судебных врачей после разговора с Швейком: «Нижеподписавшиеся судебные врачи сошлись в определении полной психической отупелости и врожденного кретинизма представшего перед вышеуказанной комиссией Швейка Йозефа, кретинизм которого явствует из таких слов, как “да здравствует император Франц-Иосиф Первый”, каковых вполне достаточно, чтобы определить психическое состояние Йозефа Швейка как явного идиота».
Еще жив император, но уже восхваление его воспринимается как сумасшествие. Гашек, смеясь, расставался с прошлым. Но наступало неведомое будущее, о котором он не задумывался. Оно было совсем не смешным, а потому перу юмориста не давалось. Йозеф Швейк проходит безо всякого ущерба для себя все суды, процессы и комиссии распадавшейся империи. Йозефу К. из кафкинского «Процесса» это уже не удается, не может удастся. Он ни в чем не виноват, но он обречен гибели. Первые же строки романа «Процесс» вводят нас в мир абсурда и ужаса, где нет вины, но есть наказание: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Самым существенным моментом в этом невероятном романе кажется совпадение начала писания текста с началом войны. В эту эпоху и рождаются главная тема экзистенциализма (в жизни и в романе) — заброшенность человека в мир, где нет Бога или других сил, которые могли бы его защитить. Тут-то и возникает абсурд бытия, когда одиночество — константа человеческой жизни. А в той мировой войне каждый был одинок. У Кафки эта неукорененность человека в бытии (всякого человека во время войны) очевидно совпала с его национальной неукорененностью, ненайденной идентичностью.
Гашек, смеясь, расставался с прошлым. Но наступало неведомое будущее, о котором он не задумывался. Оно было совсем не смешным, а потому перу юмориста не давалось. Йозеф Швейк проходит безо всякого ущерба для себя все суды, процессы и комиссии распадавшейся империи. Йозефу К. из кафкинского «Процесса» это уже не удается, не может удастся. Он ни в чем не виноват, но он обречен гибели. Первые же строки романа «Процесс» вводят нас в мир абсурда и ужаса, где нет вины, но есть наказание: «Кто-то, по-видимому, оклеветал Йозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест». Самым существенным моментом в этом невероятном романе кажется совпадение начала писания текста с началом войны. В эту эпоху и рождаются главная тема экзистенциализма (в жизни и в романе) — заброшенность человека в мир, где нет Бога или других сил, которые могли бы его защитить. Тут-то и возникает абсурд бытия, когда одиночество — константа человеческой жизни. А в той мировой войне каждый был одинок. У Кафки эта неукорененность человека в бытии (всякого человека во время войны) очевидно совпала с его национальной неукорененностью, ненайденной идентичностью. Хотя Ханна Арендт воспринимала его как абсолютно еврейского писателя. Но ведь и в самом деле, в этой истребительной войне, да и на протяжении всего ХХ века, наиболее отторгнутыми оказались все же евреи.
Хотя Ханна Арендт воспринимала его как абсолютно еврейского писателя. Но ведь и в самом деле, в этой истребительной войне, да и на протяжении всего ХХ века, наиболее отторгнутыми оказались все же евреи.
В послесловии к роману «Процесс» А. Белобратов говорит о неслучайности того, что роман писался во время первой мировой войны. Но почему неслучайность? Где-то происходит нечто бессмысленное, в результате десятки тысяч молодых людей обречены смерти, идет процесс о жизни и смерти, где результат, приговор, заранее известен. По словам исследователя, тема Кафки — «персональная трагедия человека, попавшего в деперсонализированную ситуацию хорошо организованного абсурда. Но, если вдуматься, это и есть ситуация первой в истории человечества тотальной войны в самом ее начале, в августе-октябре 1914 года» [14]. В этих словах есть резон, но напрашивается пара возражений. 1. А разве войны эпохи переселения народов, все эти гунны, готы, вандалы, монголы не устраивали ту же деперсонализированную ситуацию, где человек ничего не значил. 2. В такие эпохи, когда исчезает личность, исчезает и трагедия. Ибо трагедия строится на личностной основе. В первую четверть ХХ века был слишком резкий перепад от буржуазно-личностной эпохи в тоталитарный губительный для личности кошмар. Но это не трагедия, а ужас. Стоит вспомнить окончание романа, последнюю сцену, написанную практически одновременно с началом. Здесь самое поразительное — это казнь героя, которая оборачивается почему-то для него позором, как для жертв тоталитарных процессов. «Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
2. В такие эпохи, когда исчезает личность, исчезает и трагедия. Ибо трагедия строится на личностной основе. В первую четверть ХХ века был слишком резкий перепад от буржуазно-личностной эпохи в тоталитарный губительный для личности кошмар. Но это не трагедия, а ужас. Стоит вспомнить окончание романа, последнюю сцену, написанную практически одновременно с началом. Здесь самое поразительное — это казнь героя, которая оборачивается почему-то для него позором, как для жертв тоталитарных процессов. «Но уже на его горло легли руки первого господина, а второй вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. Потухшими глазами К. видел, как оба господина у самого его лица, прильнув щекой к щеке, наблюдали за развязкой.
— Как собака, — сказал он так, как будто этому позору суждено было пережить его».
Не забудем, что роман написан в 1914 году, задолго до казней невинно осужденных на тоталитарных процессах, которые испытывали чувство позора, как враги всего светлого и прекрасного. Поразительная угадка, словно писатель проник вглубь ХХ века.
Поразительная угадка, словно писатель проник вглубь ХХ века.
Йозеф К. изображен как очень простой человек, ни к чему особенно не стремящийся. Вообще, эпоха видела положительный момент именно в «человеке без свойств», как назвал свой главный роман Роберт Музиль. Заключительная фраза великого «Логико-философского трактата» (1918) Людвига Витгенштейна тоже об этом, об отказе от громких слов, как высшем проявлении нравственности: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» [15].
Это была эпоха уходившей бюргерской культуры, господствовавшей предыдущие пару столетий. «Состояние, в котором мы находимся, — констатировал Юнгер, — подобно антракту, когда занавес уже упал и за ним спешно происходит смена актеров и реквизита» [16]. Но дело-то в том, что готовился не очередной акт все той же пьесы, начиналась новая постановка, а сказать проще, в эти годы менялся состав мира. На первый взгляд, самое сущностное событие этого антракта — все же конец бюргерской, буржуазной эпохи. Одним из первых об этом сказал Томас Манн. Род Будденброков кончился. С ним кончилась и эпоха индивидуализма, ценностей независимо-личностной культуры. Это была трагедия. И Манн всю свою жизнь описывал именно этот закат бюргерства. Но об этом конце в те годы твердили и многие другие: от Ортеги-и-Гассета с его «восстанием масс» до Бердяева с его «новым Средневековьем». Невероятный взлет личностной культуры, разнообразие направлений и личностей начала ХХ века сменила вдруг «железная поступь рабочих батальонов», которую услышал и пропагандировал Ленин. Образ рабочего, образ власти четвертого сословия изобразил Эрнст Юнгер в своей знаменитой книге «Рабочий. Господство и гештальт», где сказано: «Люди уже не собираются вместе — они выступают маршем» [17]. А это уже не новый акт, но новая пьеса, новый мир.
Род Будденброков кончился. С ним кончилась и эпоха индивидуализма, ценностей независимо-личностной культуры. Это была трагедия. И Манн всю свою жизнь описывал именно этот закат бюргерства. Но об этом конце в те годы твердили и многие другие: от Ортеги-и-Гассета с его «восстанием масс» до Бердяева с его «новым Средневековьем». Невероятный взлет личностной культуры, разнообразие направлений и личностей начала ХХ века сменила вдруг «железная поступь рабочих батальонов», которую услышал и пропагандировал Ленин. Образ рабочего, образ власти четвертого сословия изобразил Эрнст Юнгер в своей знаменитой книге «Рабочий. Господство и гештальт», где сказано: «Люди уже не собираются вместе — они выступают маршем» [17]. А это уже не новый акт, но новая пьеса, новый мир.
Уже много позже русский поэт так опишет конец XIX и рождение нового века:
Все уставшие «Я» успокоились.
Все — патриоты.
Сметены тупики.
Жизнь ясна,
и природа ясна.
Необъятные личности
жаждут построиться в роты…
Кто оратор? — спроси.
Все равно.
Ни к чему имена.
Наум Коржавин. Конец века.
Но это все образы, так сказать, поэтические, политические и публицистические. Было, однако, и ощущение великого философа, подтвердившего предчувствия Ницше и Достоевского о «смерти Бога», о возможном «убийстве Бога», — ощущение Мартина Хайдеггера, прозвучавшее как констатация свершившегося факта: о «нетости Бога». Об этом слова позднего Хайдеггера, подводящие своеобразный итог его построениям: «Мировая ночь распространяет свой мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что остается вовне Бог, определена “нетостью Бога”. <…> Нетость Бога означает, что нет более видимого Бога, который неопровержимо собрал бы к себе и вокруг себя людей и вещи и изнутри такого собирания сложил бы и мировую историю, и человеческое местопребывание в ней. В нетости Бога возвещает о себе, однако, и нечто куда более тяжкое. Не только ускользнули боги и Бог, но и блеск Божества во всемирной истории погас. Время мировой ночи — бедное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что не способно замечать нетость Бога» [18]. Хайдеггер пытается во всем своем творчестве, по мысли А. В. Михайлова, передать «непосредственный ужас отсутствия Бога» [19]. Но как себя мог чувствовать человек, утерявший Бога и не входивший в железные когорты, наступавшие на мир и перестраивавшие его по своему, а не Божьему разумению? Предчувствовал ли он, что жизнь меняется в корне? Но обывателю предчувствовать не дано, он чувствует только прямой укол или удар. А вот Кафке уже хотелось спрятаться. От кого? От чего? Трудно сказать, но вот герой его знаменитой новеллы «Нора» рассуждает так: «Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно. <…> Разве, когда ты охвачен нервным страхом и видишь в жилье только нору, в которую можно уползти и быть в относительной безопасности, — разве это не значит слишком недооценивать значение жилья? Правда, оно и есть безопасная нора или должно ею быть, и если я представлю, что окружен опасностью, тогда я хочу, стиснув зубы, напрячь всю свою волю, чтобы мое жилье и не было ничем иным, кроме дыры, предназначенной для спасения моей жизни, чтобы эту совершенно ясно поставленную задачу оно выполняло с возможным совершенством, и готов освободить его от всякой другой задачи».
Время мировой ночи — бедное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что не способно замечать нетость Бога» [18]. Хайдеггер пытается во всем своем творчестве, по мысли А. В. Михайлова, передать «непосредственный ужас отсутствия Бога» [19]. Но как себя мог чувствовать человек, утерявший Бога и не входивший в железные когорты, наступавшие на мир и перестраивавшие его по своему, а не Божьему разумению? Предчувствовал ли он, что жизнь меняется в корне? Но обывателю предчувствовать не дано, он чувствует только прямой укол или удар. А вот Кафке уже хотелось спрятаться. От кого? От чего? Трудно сказать, но вот герой его знаменитой новеллы «Нора» рассуждает так: «Я обзавелся норой, и, кажется, получилось удачно. <…> Разве, когда ты охвачен нервным страхом и видишь в жилье только нору, в которую можно уползти и быть в относительной безопасности, — разве это не значит слишком недооценивать значение жилья? Правда, оно и есть безопасная нора или должно ею быть, и если я представлю, что окружен опасностью, тогда я хочу, стиснув зубы, напрячь всю свою волю, чтобы мое жилье и не было ничем иным, кроме дыры, предназначенной для спасения моей жизни, чтобы эту совершенно ясно поставленную задачу оно выполняло с возможным совершенством, и готов освободить его от всякой другой задачи».
Он просто в ужасе. А что такое ужас? Обратимся к Хайдеггеру.
Но прежде вспомним, в чем смысл трагических коллизий.
Трагедия и ужас
Еще Феофраст, кажется, говорил, что трагедия — это изображение «превратностей героической судьбы». В лекциях по «Философии религии» Гегель писал: «Подчинены необходимости и трагичны в особенности те индивиды, которые возвышаются над нравственным состоянием и хотят совершить нечто особенное. Таковы герои, отличающиеся от остальных своей собственной волей, у них есть интерес, выходящий за пределы спокойного состояния, гарантируемого властью, правлением Бога; это те, кто хочет и действует на свой страх и риск, они возвышаются над хором, спокойным, постоянным, не раздвоенным нравственным течением событий. У хора нет судьбы, он ограничен обычной жизненной сферой и не возбуждает против себя ни одной из нравственных сил» [20]. Герой Кафки — человек из хора, неожиданно обретающий судьбу, сталкивающийся с какой-то надличной силой. Но вот является ли эта сила орудием Божественного провидения — весьма сомнительно. Трагического примирения с субстанциальным состоянием мира у Кафки и его героев не происходит. Почему? Да потому что изменился мир, это мир, где стал действовать закон больших чисел, мир, где исчезла индивидуальность, где поэтому нет Бога.
Но вот является ли эта сила орудием Божественного провидения — весьма сомнительно. Трагического примирения с субстанциальным состоянием мира у Кафки и его героев не происходит. Почему? Да потому что изменился мир, это мир, где стал действовать закон больших чисел, мир, где исчезла индивидуальность, где поэтому нет Бога.
Людвиг Витгенштейн призывал молчать о том, о чем невозможно говорить, т.е. о высших смыслах бытия. Громкие слова стали говорить площадные демагоги и фюреры, отрицавшие при этом Бога, но апеллировавшие к великим героям древности. «Нетость Бога» характерна была не только для Хайдеггера и Кафки, совсем в другом измерении той же эпохи явился человек (или дьявол?), который, не принимая Бога, Церкви, хотел противопоставить им языческий культ героев (в который так легко было вставить и собственное имя: в Божественную литургию себя не вставишь). Гитлер говорил: «Я иду в церковь не для того, чтобы слушать службу. Я только любуюсь красотой здания. Я бы не хотел, чтобы у потомков сложилось обо мне мнение как о человеке, который в этом вопросе пошел на уступки. <…> Я лично никогда не покорюсь этой лжи. И не потому, что хочу кого-то разозлить, а потому, что считаю это издевательством над Провидением. Я рад, что у меня нет внутренней связи с верующими. Я себя превосходно чувствую в обществе великих исторических героев, к которым сам принадлежу. На том Олимпе, на который я восхожу, восседают блистательные умы всех времен» [21].
<…> Я лично никогда не покорюсь этой лжи. И не потому, что хочу кого-то разозлить, а потому, что считаю это издевательством над Провидением. Я рад, что у меня нет внутренней связи с верующими. Я себя превосходно чувствую в обществе великих исторических героев, к которым сам принадлежу. На том Олимпе, на который я восхожу, восседают блистательные умы всех времен» [21].
А кто же были другие, которым не удалось вместе с фюрером войти на героический Олимп? Во всяком случае, не герои. Люди массы, умиравшие за предписанную им идею, но умиравшие не как индивиды, а как представители некоей идеологической общности. Советское время родило странный оксюморон: «массовый героизм». Вспомним: «у нас героем становится любой» — пелось в одной из советских песен. И это была чистая правда, поскольку для понимания нового факта — жестокой гибели безымянных сотен тысяч людей использовались старые понятия героизма и жертвенности. Анонимность, безымянность эпохи. Неизвестный солдат, неизвестные генералы в штабах; неизвестный солдат — это гештальт, образ, а не индивид. Эта безымянность рождала имя одного, Единственного, который и мнил себя героем в старом смысле. Но быть героем среди безымянных невозможно. Так определил новое пространство европейского мира Канетти: «Страна, где произнесший “я” немедленно скрывается под землей» [22]. Эту-то ситуацию отсутствия героев, героического, а тем самым отсутствие и трагедийного фиксирует творчество Кафки.
Эта безымянность рождала имя одного, Единственного, который и мнил себя героем в старом смысле. Но быть героем среди безымянных невозможно. Так определил новое пространство европейского мира Канетти: «Страна, где произнесший “я” немедленно скрывается под землей» [22]. Эту-то ситуацию отсутствия героев, героического, а тем самым отсутствие и трагедийного фиксирует творчество Кафки.
Кафка осторожен, он словно не верит сам себе. В новелле «Превращение» Грегор Замза, превратившись в насекомое (Ungeziefer, что в точном переводе значит — «вредное насекомое, паразит»), долго не может понять, что с ним произошло. Более того, не может понять, что произошло непоправимое. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», — думает он. Трудно поверить в то, во что превращается мир и человек. Здесь нет произнесения трагических фраз, как было бы характерно для поэта, видящего мироздание как трагедию. Здесь не место монологу Гамлета. Канетти пишет: «Кафке и в самом деле чуждо какое-либо тщеславие поэта, он никогда не чванится, он не способен к чванству. Он видится себе маленьким и передвигается маленькими шажками. Куда бы ни ступила его нога, он чувствует ненадежность почвы» [23].
Он видится себе маленьким и передвигается маленькими шажками. Куда бы ни ступила его нога, он чувствует ненадежность почвы» [23].
Почему же здесь нет трагедии? Потому что историческая и привычная почва уходит из-под ног, пропадает вертикаль, державшая человека все предыдущие столетия и даже тысячелетия, вертикаль человек и Бог, или боги, как в Античности. По словам же Гегеля, «подлинная тема изначальной трагедии — Божественное начало, но не в том виде, как оно составляет содержание религиозного сознания, а как оно вступает в мир, в индивидуальные поступки, не утрачивая, однако, в этой действительности своего субстанциального характера и не обращаясь в свою противоположность» [24]. Трагический герой связан как с Божественным началом, так и с одной из сторон «устойчивого жизненного содержания» (Гегель). У персонажей Кафки это устойчивое жизненное содержание полностью отсутствует. Они все при службе, но как бы и вне ее, а главное — вне бытия, они существуют, но не бытийствуют. Кафка это вполне понимает. В его мире правят анонимные силы, и вместо Бытия в лицо человеку глядит Ничто. Человек не находит себе места в этом мире — об этом он и пишет, человек обречен суду непостижимых сил. Кафка даже не жалеет своего героя. Он в ужасе, ему нечего сказать, он просто констатирует самоощущение своих персонажей. Порой даже кажется, что именно их самоощущение и влечет дальнейшие события — «превращение», «процесс», «приговор».
Позднее Белль спрашивал, «где ты был, Адам?», Эли Визель в своей трилогии оплакивал жертвы нацистских лагерей, Шаламов рисовал выживание в смертоносных условиях Колымы. А Кафка просто указывал пальцем. И читатель цепенел перед этим указующим перстом, как цепенел Хома Брут, когда на него указал Вий. Конечно, Кафка совсем не Вий, но очевидный медиум инфернальных сил. В религии для него не было спасения. Да и вера не избавляла от восприятия этого мира как мира ужаса. Любимый философ Кафки датчанин Серен Кьеркегор писал, что Библия «отказывает человеку, пребывающему в невинности, в знании различия между добром и злом. <…> В этом состоянии царствует мир и покой; однако в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же значение имеет ничто? Оно порождает страх» [25]. Angest у Кьеркегора и Angst у Хайдеггера можно перевести, как страх, но у Хайдеггера сегодня переводят, как ужас, и, как увидим, смыслово эти понятия близки, хотя у датского мыслителя Angest более психологическое понятие [26], но поскольку это слово связано с библейскими темами, то его можно сблизить и с хайдеггеровским онтологическим понятием. Бердяев, несмотря на свой перевод хайдеггеровского Angst как страха, почувствовал здесь и нечто другое: «Страх лежит в основе жизни этого мира. <…> Если говорить глубже, по-русски нужно сказать — ужас» [27].
<…> В этом состоянии царствует мир и покой; однако в то же самое время здесь пребывает и нечто иное, что, однако же, не является ни миром, ни борьбой; ибо тут ведь нет ничего, с чем можно было бы бороться. Но что же это тогда? Ничто. Но какое же значение имеет ничто? Оно порождает страх» [25]. Angest у Кьеркегора и Angst у Хайдеггера можно перевести, как страх, но у Хайдеггера сегодня переводят, как ужас, и, как увидим, смыслово эти понятия близки, хотя у датского мыслителя Angest более психологическое понятие [26], но поскольку это слово связано с библейскими темами, то его можно сблизить и с хайдеггеровским онтологическим понятием. Бердяев, несмотря на свой перевод хайдеггеровского Angst как страха, почувствовал здесь и нечто другое: «Страх лежит в основе жизни этого мира. <…> Если говорить глубже, по-русски нужно сказать — ужас» [27].
Хайдеггер задавал вопрос: «Бывает ли в нашем бытии такая настроенность, которая способна приблизить к самому Ничто?». И сам отвечал на него: «Это может происходить и действительно происходит — хотя достаточно редко, только на мгновения, — в фундаментальном настроении ужаса» [28]. Именно ужас — основное чувство, которое владеет Кафкой. Ужас, заставляющий зарываться в нору, ужас, как в страшном сне, превращения во вредное насекомое-паразита, ужас неправедного и не имеющего окорота губительного суда, ужас отторгаемого всеми человека, как «К.» в «Замке». Конечно, можно сказать, что это чувство рождено именно еврейской ментальностью, ибо не было более несправедливо гонимого и страдающего народа. Но это чувство стало определяющим в ХХ столетии. Не случайно, Хайдеггер делает это понятие одним из основных в своей философской системе: «Ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хотя ужас это всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот определенной угрозы. И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить.
И сам отвечал на него: «Это может происходить и действительно происходит — хотя достаточно редко, только на мгновения, — в фундаментальном настроении ужаса» [28]. Именно ужас — основное чувство, которое владеет Кафкой. Ужас, заставляющий зарываться в нору, ужас, как в страшном сне, превращения во вредное насекомое-паразита, ужас неправедного и не имеющего окорота губительного суда, ужас отторгаемого всеми человека, как «К.» в «Замке». Конечно, можно сказать, что это чувство рождено именно еврейской ментальностью, ибо не было более несправедливо гонимого и страдающего народа. Но это чувство стало определяющим в ХХ столетии. Не случайно, Хайдеггер делает это понятие одним из основных в своей философской системе: «Ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хотя ужас это всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот определенной угрозы. И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить. <…> Ужасом приоткрывается Ничто» [29].
<…> Ужасом приоткрывается Ничто» [29].
На место свободного трагического героя, вступающего в борьбу с целым миром, пришел оцепенелый от ужаса герой, который не может вступить в борьбу с миром, с Бытием, ибо оно исчезло, вместо него Ничто, с которым априори ясно, что бороться немыслимо и бессмысленно. Надо сразу сказать, что Кафка вполне сознательно, без детской паники, рисует новую мировую ситуацию. Он и не любуется своим открытием, не играет в него, как игрались в грядущую катастрофу много предчувствовавшие поэты и художники Серебряного века. «Он, — замечает Канетти, — лишил Бога последних покровов отеческой драпировки. И все, что осталось, — это плотная и несокрушимая сеть размышлений, относящихся к самой жизни, а не к претензиям ее породителя. Другие поэты гримируются под Бога и принимают позу творцов. Кафка, никогда не стремящийся к божественному рангу, также никогда не дитя. То, что воспринимается в нем некоторыми как пугающее и что выводит из равновесия и меня, — его неизменная взрослость. Он мыслит, не повелевая, но также и не играя» [30]. Тема духовной вертикали оказывается одной из важнейших тем Кафки.
Он мыслит, не повелевая, но также и не играя» [30]. Тема духовной вертикали оказывается одной из важнейших тем Кафки.
Нетость Бога и парадокс надежды
От ужаса мира человека обещал спасти Бог. Но как быть, если Он непостижим и недостижим!? В «Процессе» священник рассказывает Йозефу К. притчу о вратах Закона, к которым пришел поселянин в поисках справедливости, но его туда не пускал страж, пока поселянин не умер перед этими вратами. И только перед смертью он узнал, что врата эти предназначались именно для него. Монголоидный стражник говорит умирающему, удивленному, что за долгие годы никто другой не попробовал в эти ворота зайти: «Никому сюда входа нет, эти врата предназначены для тебя одного. Теперь пойду и запру их». То, что притчу рассказывает священник, служитель Бога, весьма важно. Ибо именно он должен осуществлять связь человека и Бога. Но он неким пугалом, как стражник, стоит перед этими вратами, не пуская в них подсудимого. Для Кафки, как еврея, очень важна тема Закона. И когда он рисует, как персонаж «Процесса» не может, не решается прорваться к Закону, то надо понимать это так, что человек этот не может пройти к Богу: его останавливают вполне условные препятствия. Откуда они? Мартин Бубер таким образом трактует эту притчу Кафки: «Для каждого человека есть своя собственная дверь, и она открыта ему. Но он не знает этого и, по-видимому, узнать не в состоянии» [31]. Стоит добавить, что священник, с которым беседует Йозеф К., несостоявшийся его посредник в несостоявшемся контакте с Богом, — тюремный капеллан и тоже служит суду, а вовсе не Богу.
И когда он рисует, как персонаж «Процесса» не может, не решается прорваться к Закону, то надо понимать это так, что человек этот не может пройти к Богу: его останавливают вполне условные препятствия. Откуда они? Мартин Бубер таким образом трактует эту притчу Кафки: «Для каждого человека есть своя собственная дверь, и она открыта ему. Но он не знает этого и, по-видимому, узнать не в состоянии» [31]. Стоит добавить, что священник, с которым беседует Йозеф К., несостоявшийся его посредник в несостоявшемся контакте с Богом, — тюремный капеллан и тоже служит суду, а вовсе не Богу.
А если нет примирения, прежде всего примирения с Богом, то катарсис невозможен. Попробуем в этом контексте бросить еще быстрый взгляд на решение Кафкой проблемы Бога и свободы. Новеллы, притчи, романы, дневниковые записи — везде Кафка ярок, необычен, глубок. И все же роман «Замок» (наряду с «Процессом») можно назвать одной из вершин его творчества. Произведение это сложное, вызвавшее множество трактовок. Скажем, Камю писал: «В “Замке”, его центральном произведении, детали повседневной жизни берут верх, и все же в этом странном романе, где ничто не заканчивается и все начинается заново, изображены странствия души в поисках спасения» [32]. Томас Манн называл этот роман гениальным и автобиографическим. Герой романа К. наделен душой одинокого пражского чиновника, пытающегося всю жизнь пробиться к абсолюту искусства. И пусть внешне это выглядит, как попытки землемера К., приглашенного в Замок, встретится с кем-либо из чиновников, этим замком управляющих, но, как кажется Манну, дело в ином: «Ясно, что неустанные попытки К. из чужака превратиться в аборигена и прилично войти в общество есть лишь средство улучшить — или вообще впервые установить — отношения с “Замком”, то есть прийти к Богу, снискать милость Его. В гротесковой символике сна деревня в романе — это образ жизни, земли, общества, добропорядочной нормальности, благословенность человеческих, бюргерских связей, замок же — это божественное, небесное управление, вышняя милость во всей ее загадочности, недостижимости, непостижимости» [33].
Скажем, Камю писал: «В “Замке”, его центральном произведении, детали повседневной жизни берут верх, и все же в этом странном романе, где ничто не заканчивается и все начинается заново, изображены странствия души в поисках спасения» [32]. Томас Манн называл этот роман гениальным и автобиографическим. Герой романа К. наделен душой одинокого пражского чиновника, пытающегося всю жизнь пробиться к абсолюту искусства. И пусть внешне это выглядит, как попытки землемера К., приглашенного в Замок, встретится с кем-либо из чиновников, этим замком управляющих, но, как кажется Манну, дело в ином: «Ясно, что неустанные попытки К. из чужака превратиться в аборигена и прилично войти в общество есть лишь средство улучшить — или вообще впервые установить — отношения с “Замком”, то есть прийти к Богу, снискать милость Его. В гротесковой символике сна деревня в романе — это образ жизни, земли, общества, добропорядочной нормальности, благословенность человеческих, бюргерских связей, замок же — это божественное, небесное управление, вышняя милость во всей ее загадочности, недостижимости, непостижимости» [33]. Об этом же говорит и Бубер. Заметив, что в романах Кафки «Бог удален и пребывает в непроницаемом затмении» [34], он добавляет: «Невысказываемая, но вечно присутствующая тема Кафки — удаленность Судии, удаленность властелина Замка, потаенность, помраченность, затмение» [35].
Об этом же говорит и Бубер. Заметив, что в романах Кафки «Бог удален и пребывает в непроницаемом затмении» [34], он добавляет: «Невысказываемая, но вечно присутствующая тема Кафки — удаленность Судии, удаленность властелина Замка, потаенность, помраченность, затмение» [35].
Но уже в самом облике Замка заключен некий обман. «Это была и не старинная рыцарская крепость, и не роскошный новый дворец, а целый ряд строений, состоящий из нескольких двухэтажных и множества тесно прижавшихся друг к другу низких зданий». В этом Замке засела Канцелярия, чиновники, паразитирующие на Деревне, все жители которой верные рабы (не вассалы — рабы!) чиновников, не одного феодала, а целого аппарата бюрократов. Это как бы возведенный в новую степень феодалитет, пользующийся всеми феодальными правами, но без их обязанностей. Замок вроде бы знает о существовании К., ему присылают двух помощников, по сути — соглядатаев, шлют письма, но не допускают ни в Замок, ни к той работе, ради которой он приехал. Начинается фантасмагорическая бюрократиада, заключающаяся в бесплодных попытках К. пробиться к чиновникам Замка, поговорить с ними. Добиваясь свидания с начальником канцелярии Кламмом, К. говорит: «Для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним». Но вот лица чиновника он и не может углядеть. Могущество канцелярии в ее безличности, имена у чиновников есть, но только именами (да и то похожими порой: Сордини-Сортини) они и различаются, но отнюдь не поступками. Эта безличность, недоступность чиновников — как непроницаемая крепостная стена вокруг Замка.
пробиться к чиновникам Замка, поговорить с ними. Добиваясь свидания с начальником канцелярии Кламмом, К. говорит: «Для меня самым важным будет то, что я встречусь лицом к лицу с ним». Но вот лица чиновника он и не может углядеть. Могущество канцелярии в ее безличности, имена у чиновников есть, но только именами (да и то похожими порой: Сордини-Сортини) они и различаются, но отнюдь не поступками. Эта безличность, недоступность чиновников — как непроницаемая крепостная стена вокруг Замка.
Кафка не щадит своего героя. К. готов использовать и использует все возможные средства, чтобы пробиться к Кламму. Он сходится с любовницей Кламма Фридой (точнее, одной из многих любовниц, приглашаемых на нужное время, а потом изгоняемых, но все равно быть любовницей Кламма — большая честь для женщин Деревни, это почти чин). Фрида, вдруг решив, что она по-настоящему любима, рвет с Кламмом, кричит ему: «А я с землемером! А я с землемером!» И сразу обрывает надежды К. на контакт с чиновником. «Что случилось? Где его надежды? Чего он мог теперь ждать от Фриды, когда, она его так выдала?.. «Что ты наделала? — сказал он вполголоса. — Теперь мы оба пропали»». Но Фрида готова идти за ним хоть на край света, а К. готов на ней жениться, чтобы, напротив, остаться в Деревне. Он не поддается искушению искать свободу в бегстве. Хотя основное свое отличие от жителей Деревни и Замка, он сам заявил в первый же день своего прибытия: «Хочу всегда чувствовать себя свободным». Но возможна ли в этом мире свобода? В рассказе «Отчет для Академии» Кафка устами обезьяны, ставшей человеком, сформулировал: «Великое чувство свободы — всеобъемлющей свободы — я оставляю в стороне… Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода — направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким… Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал — пусть только предчувствовал, — что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода, с помощью бегства невозможно… Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней».
на контакт с чиновником. «Что случилось? Где его надежды? Чего он мог теперь ждать от Фриды, когда, она его так выдала?.. «Что ты наделала? — сказал он вполголоса. — Теперь мы оба пропали»». Но Фрида готова идти за ним хоть на край света, а К. готов на ней жениться, чтобы, напротив, остаться в Деревне. Он не поддается искушению искать свободу в бегстве. Хотя основное свое отличие от жителей Деревни и Замка, он сам заявил в первый же день своего прибытия: «Хочу всегда чувствовать себя свободным». Но возможна ли в этом мире свобода? В рассказе «Отчет для Академии» Кафка устами обезьяны, ставшей человеком, сформулировал: «Великое чувство свободы — всеобъемлющей свободы — я оставляю в стороне… Нет, я не хотел свободы. Я хотел всего-навсего выхода — направо, налево, в любом направлении, других требований я не ставил; пусть тот выход, который я найду, окажется обманом, желание было настолько скромным, что и обман был бы не бог весть каким… Бросая взгляд на прошлое, я считаю, что уже тогда я предчувствовал — пусть только предчувствовал, — что мне необходимо найти выход, если я хочу остаться в живых, и что достичь этого выхода, с помощью бегства невозможно… Стоило мне высунуть голову, как меня бы поймали и посадили в новую клетку, еще хуже прежней».
Как кажется, именно это представление о мире и возможности в нем свободы лежит в основе поведения К., автобиографического, подчеркиваю еще раз, героя. Кафка предчувствовал наступление времени, когда невозможна «свобода», а в лучшем случае возможен «выход», пусть иллюзорный, известное приспособление к обстоятельствам. Мераб Мамардашвили выдвинул как-то «принцип трех “К” — Картезия (Декарта), Канта и Кафки» [36]. Кафка в этой схеме, как понятно, явился выражением ХХ столетия. Но Мамардашвили находит и объединяющую эти три «К» проблему: «С точки зрения общего смысла принципа трех “К” вся проблема человеческого бытия состоит в том, что нечто еще нужно (снова и снова) превращать в ситуацию поддающуюся осмысленной оценке и решению, например, в терминах этики и личностного достоинства, т.е. в ситуацию свободы или же отказа от нее как одной из ее же возможностей» [37]. К. не ищет свободы где-то за пределами Замка и Деревни, возможно, понимая, что и там то же самое. Но внутри предложенной ему жизнью и судьбой ситуации он хочет всеми правдами и неправдами отстоять свое личное достоинство.
Но внутри предложенной ему жизнью и судьбой ситуации он хочет всеми правдами и неправдами отстоять свое личное достоинство.
Однако Замок строит свои отношения с героем таким образом, что К. каждый момент чувствует себя ущемленным, униженным. Ему предлагают работу сторожа в школе, он вынужден ее принять, чтобы был кров и пропитание (жить он вынужден в классе, где идут занятия). Учитель и учительница, «местная интеллигенция» глумятся над ним и Фридой, поведением своим доказывая, что они не лучше, чем крестьяне, которых Кафка рисует тоже совершенно беспощадно, как Ван Гог своих «Едоков картофеля»: К. «еще не потерял интереса к ним (крестьянам. — В.К.) с их словно нарочно исковерканными физиономиями — казалось, их били по черепу сверху, до уплощения, и черты лица формировались под влиянием боли от этого битья, — теперь они, приоткрыв отекшие губы, то смотрели на него, то не смотрели, иногда их взгляды блуждали по сторонам и останавливались где попало, уставившись на какой-нибудь предмет». Эта зарисовка, настолько пластична, что кажется достойной кисти великого живописца. К. — с «народническим» пафосом — хочет слиться с жителями Деревни, стать таким, как они, «если не их другом, то хотя бы их односельчанином», но жители Деревни упорно и настойчиво отталкивают его от себя.
Эта зарисовка, настолько пластична, что кажется достойной кисти великого живописца. К. — с «народническим» пафосом — хочет слиться с жителями Деревни, стать таким, как они, «если не их другом, то хотя бы их односельчанином», но жители Деревни упорно и настойчиво отталкивают его от себя.
Землемер (по профессии — классический чеховский персонаж) не нужен крестьянам, они готовы обойтись без этого разночинного интеллигента. Староста деревни говорит ему: «Нам землемер не нужен. Для землемера у нас нет никакой, даже самой мелкой работы. Границы наших маленьких хозяйств установлены, все аккуратно размежевано. Из рук в руки имущество переходит очень редко, а небольшие споры из-за земли мы улаживаем сами. Зачем нам тогда землемер?» Крестьяне не задаются вопросом, зачем им огромная бессмысленная канцелярия, паутина с пауками, высасывающая из них силы, кровь, разум, превращающая их женщин в покорных наложниц чиновников, а, мужей в конфидентов своих жен, обсуждающих с ними свои отношения с чиновниками. Кафка здесь мимоходом указал еще на одну проблему: крестьянский общинный мир, как показала история, является тем субстратом, на котором вырастают азиатские империи, а в XХ веке — тоталитарные государства [38]. Борьба К. в этом мире заранее обречена на поражение. Его пригласили сюда по канцелярской ошибке, затем издевательски «платили за то, чтоб он не делал то, что он может делать», скажем, употребляя формулу А. Блока. Помощники, приставленные к нему, сходные, как близнецы, притом похожие на змей, что Кафка постоянно подчеркивает, втираются, вползают в каждую щель его личной жизни, не оставляя его ни на минуту, даже в интимные моменты, опутывая его, вынуждая совершать ошибки. Фрида не выдерживает его «беспокойного поведения», его неумения примириться с обстоятельствами, примениться к ним, и уходит от него к одному из помощников. К. невольно выталкивается к париям Деревни — семейству посыльного Варнавы. Из последней написанной части романа, мы узнаем историю этого семейства, заключающую в себе как бы модель судьбы тех жителей, которые попробовали не повиноваться Замку, т.
Кафка здесь мимоходом указал еще на одну проблему: крестьянский общинный мир, как показала история, является тем субстратом, на котором вырастают азиатские империи, а в XХ веке — тоталитарные государства [38]. Борьба К. в этом мире заранее обречена на поражение. Его пригласили сюда по канцелярской ошибке, затем издевательски «платили за то, чтоб он не делал то, что он может делать», скажем, употребляя формулу А. Блока. Помощники, приставленные к нему, сходные, как близнецы, притом похожие на змей, что Кафка постоянно подчеркивает, втираются, вползают в каждую щель его личной жизни, не оставляя его ни на минуту, даже в интимные моменты, опутывая его, вынуждая совершать ошибки. Фрида не выдерживает его «беспокойного поведения», его неумения примириться с обстоятельствами, примениться к ним, и уходит от него к одному из помощников. К. невольно выталкивается к париям Деревни — семейству посыльного Варнавы. Из последней написанной части романа, мы узнаем историю этого семейства, заключающую в себе как бы модель судьбы тех жителей, которые попробовали не повиноваться Замку, т. е. чиновникам. В первых частях романа — покорные, в последней — бывшие непокорные. Хотя и непокорность-то достаточно ничтожна.
е. чиновникам. В первых частях романа — покорные, в последней — бывшие непокорные. Хотя и непокорность-то достаточно ничтожна.
Сестра Варнавы Амалия получила от чиновника Сортини письмо с недвусмысленным предложением прийти к нему. Возмущенная девушка поступила так, как никто из женщин до сих пор не поступал: порвала письмо и клочки бросила в физиономию посыльного. Дальше происходит нечто чудовищное: жители Деревни резко и бесповоротно отворачиваются от этого семейства. Отца семейства исключают из пожарной команды сами жители, недавно преуспевающий сапожник, он лишается заказов, беднеет, вынужден перебраться в бедную избушку, теряет силы и рассудок. Он пытается подстеречь хоть кого из чиновников, чтобы вымолить прощение. Сестра Амалии Ольга, пытаясь спасти семью, ходит в гостиницу, где останавливаются слуги чиновников, напоминающие не то разнузданную орду, не то опричников, и дважды в неделю спит с ними на конюшне, надеясь через них пробиться к власть имеющим в Замок. Но все безрезультатно. Замок просто не обращает на них внимания. Но самое интересное в том, что Замок не преследует это семейство, все это делают жители Деревни по своей воле. Кафка рисует высшую степень духовного рабства, когда внешнего принуждения и насилия уже не нужно. Малейший, даже случайный, жест независимости приводит в этом мире человека к крушению, более того, вызывает эскалацию несчастий с близкими людьми.
Здесь нет места героизму, нет места для трагедии. Нельзя не согласиться с Томасом Манном, что «на протяжении всей книги неустанно, всеми средствами обрисовывается и всеми красками расцвечивается гротескная несоизмеримость человеческого и трансцендентного бытия, безмерность божественного, чуждость, зловещность, нездешняя алогичность, нежелание высказать себя, жестокость, просто, по человеческим понятиям, безнравственность высшей власти» [39]. Здесь, конечно, нет места и свободе. Почти закончив статью, я вдруг натолкнулся на запись Мамардашвили: «Кафка — невозможность трагедии» [40]. То есть это та запредельная ситуация, когда свободы нет даже в ее негативном смысле. Это не недостаток, а полное отсутствие свободы. Когда свободы немного, за нее можно бороться, тогда появляются трагические герои — герои Шекспира и Шиллера. И совсем иное дело, когда нет даже намека на нее.
Но неужели ХХ век не оставлял ни одного шанса? Вопрос в том, хочет ли свободы, понимающий бесперспективность эпохи, сам художник.
Страдая от недостатка свободы, Шекспир устами Гамлета сказал, что «весь мир — тюрьма, а Дания худшая из ее темниц». Это говорилось в Елизаветинской Англии, как понятно, во имя свободы человека. Требование свободы поднимет потом на борьбу пуритан, но еще столетия пройдут, пока Англия станет образцовой страной европейской свободы. Именно эта невероятная жажда свободы обостряла — до болезненности — чувства Кафки, ибо, как и Гамлету, весь мир ему казался тюрьмой: «Все фантазия — семья, служба, друзья, улица, все фантазия, далекая или близкая, и жена — фантазия, ближайшая же правда только в том, что ты бьешься головой о стену камеры, в которой нет ни окон, ни дверей» [41]. К несчастью, эта правда и в самом деле оказалась ближайшей. На долгие годы значительная часть человечества попала, не только в застенки, но в газовые камеры Освенцима и ледяные могилы Колымы. Еще раз сошлюсь на Ханну Арендт: «Мир Кафки — без сомнения, мир страшный. То, что он хуже кошмара, то, что по структуре он жутко адекватен той действительности, которую нам пришлось пережить, теперь мы, пожалуй, знаем лучше, чем двадцать лет назад. Самое замечательное в этом искусстве то, что оно и сегодня потрясает нас не меньше, чем тогда, что ужас рассказа «В исправительной колонии» не потерял своей непосредственности даже после реальности газовых камер» [42]. Роман «Процесс» собственно рассказал абсолютно достоверно судьбу каждого человека (хоть и с малой дозой личностного начала) в ХХ веке. Бердяев был прав, что в Первую мировую войну изменился антропологический тип человека, произошло его духовное снижение. Гениальный анализ сущности человечества в наступившую эпоху Кафка дал, не обращаясь к эмпирическим фактам ужасов военного быта. Удивление исследователя понятно: «Две уму непостижимые, необъяснимые вещи — всеобщая катастрофа, начавшаяся из-за убийства в балканском захолустье некоего титулованного лица полусумасшедшим маньяком, и самый страшный роман европейской литературы, в котором безумие и хаос приобретают столь последовательную логическую форму, что сам читатель уже верит в вину главного героя, — начинаются одновременно» [43].
И все же в творчестве одного из величайших писателей ХХ века можно увидеть обнадеживающий парадокс. О нем сказал Камю: «Кафка отказывает своему Богу в моральном величии, очевидности, доброте, но лишь для того, чтобы скорее броситься в его объятия. <…> Вопреки ходячему мнению, экзистенциальное мышление исполнено безмерной надежды, той самой, которая перевернула древний мир, провозгласив Благую весть» [44]. В этом замечании Камю поразительное прозрение: страдания и муки Христа нельзя описывать в терминах трагедии, ибо умирает он смертью раба, а не свободного человека, да и характерно чувство оставленности, владеющее Христом перед смертью: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф 27, 46). Это не был свободный выбор, моление о чаше показывает это: «Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Мф 26, 39). Он выполняет волю Иного, Своего Отца, а не Свою. Но в результате этого ужаса на земле укрепляется Благая весть и открывается пространство свободы, которая столь необходима для трагического героя.
Откуда бралась эта надежда в ХХ веке, когда от мира сквозило тоже только ужасом? Когда личность элиминировалась, составляя песчинку, каплю в движении огромных чисел людей, когда «каплею льешься с массою» (как формулировал Маяковский)? Но парадокс в том и состоял, что оставались личности, оказавшиеся вне этого общего «железного потока», не принявшие новых ценностей, о которых писали Юнгер и Ленин, сумевшие сохранить свое «Я» в эпоху тотального принуждения к единообразному мышлению. Но чтобы это я сохранить, надо было осмелиться увидеть, осознать и описать без особых эмоций изменившийся состав мира, когда сам мир еще не очень подозревал глубины происходившей в нем революции, уводившей человечество к первозданному Ничто.
Человек, писал Хайдеггер, должен «научиться в Ничто опыту бытия». И только «ясная решимость на сущностный ужас — залог таинственной возможности опыта бытия» [45]. На вглядывание в этот ужас и решился Кафка. Это, быть может, еще и не свобода, но, во всяком случае, путь к ней. Кафка оказался точкой пересечения рвавшихся к свободе духовных сил европейского общества. Он сумел оценить мир, меряя современность вечностью в ее идеальном религиозном начале. Поэтому столь значителен и важен его образ, его искусство. Всю вторую половину ХХ века человечество пыталось вернуться из мира ужаса в ситуацию трагедийно-свободного бытия. Удалось ли это, пока не очень понятно. Скорее всего нет.
* * *
В этот приезд (май 1915) мы очень хотели попасть на могилу Кафки. Но еврейское кладбище в наш единственный свободный день оказалось закрытым: «Шабат, — сказал привратник и пояснил: — Суббота». Может, в этой, пронесенной через тысячелетия традиции есть знак вечности, насколько она доступна для человека. И все же фото могилы у меня есть. Этим фото и закончу текст.
Биография Франц Кафка — Франц Кафка
Franz und Ottla Kafka Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 dem Ehepaar Hermann Kafka (1852–1931) и Джули Кафка, geborene Löwy (1856–1934) geboren, die beide bürgerlichen jüdischen Kaufmannsfamilien. Der Vater kam aus dem Dorf Wosek в Südböhmen, ниже в einfachen Verhältnissen als Sohn eines Fleischers aufwuchs. Später arbeitete er als reisender Vertreter, 1882 eröffnet er eine Großhandlung für Galanteriewaren (Kurzwaren und Modeartikel) в Праге.Джули Кафка gehörte einer wohlhabenden Familie aus Podiebrad в Mittelböhmen an, verfügte über eine umfassendere Bildung als ihr Mann und hatte Mitspracherecht in dessen Geschäft, in dem sie täbeölfite bis zun. Die Mutter brachte drei Jungen zur Welt, von denen jedoch nur Franz als Erstgeborener das Kindesalter überlebte, und drei Mädchen: Габриэле, родной Элли (1889–1941?), Валери, родной Валли (1890–1942?), Унд Отттилии (1890–1942?) Кафка (1892–1943?). Die engste familiäre Beziehung hatte Kafka zu seiner jüngsten Schwester Ottla .Sie war es, die dem Bruder beistand, als er schwer erkrankte und dringend Hilfe und Erholung brauchte. Kafkas Schwestern wurden später deportiert, vermutlich in Konzentrationslager oder Ghettos, wo sich ihre Spuren verlieren.
Da die Eltern tagsüber abwesend waren, wurden alle Geschwister im Wesentlichen von wechselndem, ausschließlich weiblichem Dienstpersonal aufgezogen. Im Hause der Kafkas sprach man zwar als Muttersprache Deutsch , mit dem Dienstpersonal sowie mit den Angestellten und Kunden im familieneigenen Unterhielt man sich aber vorwiegend auf Tschechisch .
Während sich Kafka in Briefen, Tagebüchern und Prosatexten umfangreich mit seinem Verhältnis zum Vater auseinandersetzte, stand die Beziehung zu seiner Mutter eher im Hintergrund. Allerdings gibt es gerade aus der mütterlichen Linie eine große Anzahl von Verwandten, die sich in Kafkas Figuren wiederfinden, zu nennen sind hier Junggesellen, Sonderlinge, Talmudkundige und Expizit der Landargürzt der Landarzörzt.
Kindheit, Jugend und Studium
Prag um 1890Von 1889 — 1893 besuchte Kafka die Deutsche Knabenschule am Fleischmarkt в Праге .Anschließend ging er, entsprechend dem väterlichen Wunsch, auf das ebenfalls deutschsprachige humanistische Staatsgymnasium in der Prager Altstadt, Palais Goltz-Kinsky, das sich im selben Gebäude wie das Galanteriegeschäft de Galanteriegeschäft. Der Besuch des Gymnasiums war ein Privileg, das er durch seine Position als einziger Sohn im Elternhaus erhielt. Generell wurde er deshalb bevorzugt behandelt, und konnte sich auch (relativ) frei entscheiden bei Studiengang und Berufswahl — anders als seine Schwestern.Schon als Schüler beschäftigte sich Kafka mit Literatur. Seine frühen Versuche sind jedoch verschollen, vermutlich hat er sie vernichtet, ebenso wie die frühen Tagebücher.
Kafka als SchülerZu seinen Freunden in der Oberschulzeit gehörten Rudolf Illowý, Hugo Bergmann, Ewald Felix Příbram, в dessen Vaters Versicherung er später arbeiten sollte, Paul Kisch, sowie Oskar Dembälzeit, Mitt.
1899 wandte sich der sechzehnjährige Kafka dem Sozialismus zu.Obwohl sein Freund und politischer Mentor, Рудольф Иллоуи, wegen sozialistischer Umtriebe von der Schule flog, blieb Kafka seiner Überzeugung treu und trug die rote Nelke am Knopfloch .
1901 Schloss Kafka seine gymnasiale Laufbahn mit «befriedigend» ab und verließ zum ersten Mal in seinem Leben Böhmen. Mit seinem Onkel Siegfried Löwy, dem Halbbruder von Julie Löwy und einem der gebildetsten Familienmitglieder, bereiste er Norderney und Helgoland. Der Arzt Dr. Siegfried Löwy, dem Franz Kafka sehr nahe stand, würde sich später am Vorabend seiner Deportation ins KZ selbst das Leben nehmen.
Ночь им зельбен Яр начал Франц Кафка в университете Карла Фердинанда в Праге, в Chemie ; nach kurzer Zeit wechselte er in die juristische Richtung; sodann probierte er es mit einem Semester Germanistik und Kunstgeschichte . Im Sommersemester 1902 hörte Kafka Anton Martys Vorlesung über Grundfragen der deskriptiven Psychologie . 1906 был обнаружен Jurastudium planmäßig nach fünf Jahren mit der Promotion bei Alfred Weber, worauf ein обязательные einjähriges unbezahltes Rechtspraktikum am Landes- und Strafgericht folgte.
Karriere как Versicherungsangestellter
Nach einer knapp einjährigen Anstellung bei der privaten Versicherungsgesellschaft «Assicurazioni Generali» (октябрь 1907 г. — июль 1908 г.) arbeitete Kafka von 1908–1922 in der halbstaatlichen «Allgemeinen Unfallversicherungs». Seinen Dienst bezeichnete er oft als « Brotberuf ».
Kafkas Tätigkeit bedingte genaue Kenntnisse der Industriellen Produktion und Technik.Der 25-Jährige machte Vorschläge zu Unfallverhütungsvorschriften. Außerhalb seines Dienstes solidarisierte er sich politisch mit der Arbeiterschaft; auf Demonstrationen, denen er als Passant beiwohnte, trug er weiterhin eine rote Nelke im Knopfloch. Anfangs arbeiteteer er in der Unfallabteilung, später wurde er in die versicherungstechnische Abteilung versetzt.
In Anerkennung seiner Leistungen wurde Kafka vier Mal befördert, 1910 zum Konzipisten, 1913 zum Vizesekretär, 1920 zum Sekretär, 1922 zum Obersekretär.Zu seinem Arbeitsleben vermerkt Kafka in einem Краткое описание: «Über die Arbeit klage ich nicht so, wie über die Faulheit der sumpfigen Zeit». Der «Druck» der Bürostunden, das Starren auf die Uhr, der «alle Wirkung» zugeschrieben wird, und die letzte Arbeitsminute как «Sprungbrett der Lustigkeit» — so sah Kafka den Dienst. An Milena Jesenská schrieb er: «Mein Dienst ist lächerlich und kläglich leicht […] ich weiß nicht wofür ich das Geld bekomme».
Es ist verbürgt, dass Kafka der Arbeiterklasse Mitgefühl entgegenbrachte.Sein ruhiger und persönlicher Umgang mit den Arbeitern hob sich vom herablassenden Chefgebaren seines Vaters демонстратив аб. Der Weltkrieg brachte neue Erfahrungen, als Tausende von ostjüdischen Flüchtlingen nach Prag gelangten. Im Rahmen der «Kriegerfürsorge» kümmerte sich Kafka um die Rehabilitation und berufliche Umschulung von Schwerverwundeten. Dazu war er von seiner Versicherungsanstalt verpflichtet worden; zuvor hatte ihn diese als als « unersetzliche Fachkraft » reklamiert und damit (gegen Kafkas Intervention) vor der Front geschützt, nachdem er 1915 erstmals als militärisch «voll verwendungsfähig word» eing.Die Kehrseite dieser Wertschätzung erlebte Kafka zwei Jahre später, als er an Lungentuberkulose erkrankte und um Pensionierung bat: Die Anstalt sperrte sich und gab ihn erst nach fünf Jahren am 1. Juli 1922 endgültig frei.
Kafka und sein Vater
Hermann KafkaDas konfliktreiche Verhältnis zu seinem Vater Hermann gehört zu den zentralen und prägenden Motiven в Kafkas Werk.
Selbst feinfühlig, zurückhaltend, JA introvertiert унд nachdenklich, beschreibt Франца Кафки Сейнэн Vater, дер Сечь AUS Армена Verhältnissen hochgearbeitet унд ES крафт eigener Anstrengung Zum selbstständigen Unternehmer gebracht hatte, ALS Absolut lebenstüchtige унд zupackende, Абер Эбен Auch Grobe, selbstgerechte унд despotische Kaufmannsnatur .Die aus gebildeten Verhältnissen stammende Mutter hätte einen Ausgleich zu ihrem taktlosen Mann bilden können, aber sie belerierte — den Gesetzen des Patriarchats treu — dessen Werte und Urteile.
Im Brief an den Vater wirft Kafka diesem tyrannische Züge vor: «Du kannst ein Kind nur so behandeln, wie Du eben selbst geschaffen bist, mit Kraft, Lärm und Jähzorn und in diesem Fall schien Dir das auberdies des öch noch geeignet, weil Du einen kräftigen mutigen Jungen in mir aufziehen wolltest.«
Либстер Фатер,
Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behavior, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wußte Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehörenbörenbören, als dass. Und wenn ich hier versuche, Dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich Dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs überstandnis mein Gedin.
In Kafkas Erzählungen wird der Patriarch nicht nur als mächtig, sondern auch als ungerecht dargestellt; so in der Novelle Die Verwandlung , in der der zu einem Ungeziefer verwandelte Gregor von seinem Vater mit Äpfeln beworfen und dabei tödlich verletzt wird. Die furchterregende und mächtige Figur des Vaters ist es auch, die in der Kurzgeschichte Das Urteil den Sohn Georg Bendemann zum «Tode des Ertrinkens» bestimmt — ein Urteil, das Georg in vorauseilendem Gehorsam an sich selbt ere vollzie .
Kafkas Freunde
Kafka hatte в сейнер Studienzeit в Prag einen konstanten Kreis etwa gleichaltriger Freunde, der sich während der ersten Universitätsjahre bildete (Prager Kreis). Neben Макс Брод считает, что умрет философом Феликсом Велтшем и английским Schriftsteller Оскаром Баумом и Францем Верфелем.
Brod war der erste, der Kafkas Genie frühzeitig erkannte und förderte und seinem Freund die erste Buchpublikation beim jungen Leipziger Rowohlt Verlag vermittelte.Как и Kafkas Nachlassverwalter verhinderte Brod gegen dessen Willen die Verbrennung seiner Romanfragmente.
Beziehungen zu Frauen
Seine Beziehung zu Frauen gestaltete sich für Kafka sehr schwierig. Einerseits fühlte er sich von ihnen angezogen, wollte sich verbunden führen und idealisierte die Ehe. Andererseits floh er vor den Frauen und zeigte eine große Bindungsangst . Auf jeden seiner Eroberungsschritte folgte eine Abwehrreaktion, in der der Geliebten aus dem Weg ging.Kafkas Briefe und Tagebucheintragungen vermitteln den Eindruck, sein Liebesleben habe sich im Wesentlichen als postalisches Konstrukt vollzogen. Seine Produktion an Liebesbriefen steigerte sich auf bis zu drei täglich an Felice Bauer. Dass er bis zuletzt unverheiratet blieb, trug ihm die Bezeichnung „Junggeselle der Weltliteratur“ ein.
Als Ursachen für Kafkas Bindungsangst vermutet man in der Literatur neben seiner mönchischen Arbeitsweise (er stand unter dem Zwang, allein und bindungslos zu sein, um schreiben zu können) auch Impotenz (Луис Беглэдэр) die starren kulturellen und sexuellen Normen, die Rollenverteilung von Männern und Frauen bestimmten, anzupassen.
Kafkas erste Liebe war die 1888 в Вене, fünf Jahre jüngere Abiturientin Hedwig Therese Weiler. Er lernte sie im Sommer 1907 in Triesch bei Iglau (Mähren) kennen, wo die beiden ihre Ferien bei Verwandten verbrachten. Obschon die Urlaubsbekanntschaft einen Briefwechsel nach sich zog, blieben weitere Begegnungen aus.
Felice Bauer, die aus kleinbürgerlichen jüdischen Verhältnissen stammte, und Kafka trafen sich erstmals am 28. августа 1912 года, в дер Wohnung seines Freundes Brod.Die Briefe, die er an Felice zwischen September 1912 und Oktober 1917 schreibt (insgesamt 356 Briefe und 146 Postkarten), umkreisen vor allem eine Frage: Heiraten oder sich in selbstgewählter Askese dem Schreiben widmen? 1914 Verlobte er sich zunächst mit ihr в Берлине — aber schon sechs Wochen später wurde das Eheversprechen gelöst. Zwei Jahre später wiederholte sich das Ganze: während eines gemeinsamen Aufenthaltes в Мариенбаде, bei dem Franz und Felice eine sehr glückliche und intime Beziehung eingingen, verlobten sie sich.Als Kafka aber im folgenden Sommer, 1917, an Tuberkolose erkrankte, trennten sich die beiden endgültig.
21. ноября 1912 г.
«Либсте! armes Добрый! Du hast einen kläglichen und äußerst unbequemen Liebhaber. Bekommt er zwei Tage lang keinen Brief von Dir, schlägt er wenn auch nur mit Worten besinnungslos um sich und kann es im Augenblick nicht fassen, dass er Dir damit weh tut. Aber nachher Allerdings packt ihn die Reue und Du brauchst nicht besorgt zu sehn, dass Deine durch ihn veranlasste Unruhe nicht an ihm gerächt würde bis auf das kleinste Zucken Deines Mundes.Liebste, nach Deinen zwei heutigen Briefen scheinst Du mich noch ein Weilchen dulden zu wollen, bitte, bitte, ändere Deine Meinung auch nach meinem gestrigen Briefe nicht. Ich werde Dich übrigens heute noch wahrscheinlich telegraphisch um Verzeihung bitten… »(Краткое описание Феличе Бауэр)
Nach dem Bruch mit Felice verlobte sich Kafka 1919 erneut — gegen den Willen seines Vater — diesmal mit Julie Wohryzek, der Tochter eines Prager Schusters. В einem Brief и Max Brod beschrieb er sie als „eine gewöhnliche und eine erstaunliche Erscheinung.[…] Besitzerin einer unerschöpflichen und unaufhaltbaren Menge der frechsten Jargonausdrücke, im ganzen sehr unwissend, mehr lustig als traurig “. Doch auch mit ihr ging Kafka nicht die Ehe ein. Im Laufe des ersten, gemeinsam verbrachten Nachkriegssommers wurde ein Hochzeitstermin festgelegt, jedoch wegen der Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche в Prag verschoben. Im folgenden Jahr trennten sich beide. Ein Grund mag die Bekanntschaft zu Milena Jesenská gewesen sein, der ersten Übersetzerin seiner Texte ins Tschechische.
Die aus Prag stammende Journalistin war eine lebhafte, selbstbewusste, emanzipierte Frau von 24 Jahren. Sie lebte in Wien und befand sich in einer zerrütteten Ehe mit dem Prager Schriftsteller Ernst Pollak. Nach ersten Briefkontakte besuchte Kafka sie в Вене. Voller Begeisterung berichtete der Zurückgekehrte seinem Freund Brod von der viertägigen Begegnung, aus der sich eine Beziehung mit einigen Begegnungen und vor allem einem umfangreichen Briefwechsel entwickelte. Doch wie bei Felice wiederholte sich auch bei Milena das alte Muster: Auf Annäherung und eingebildete Zusammengehörigkeit folgten Zweifel und Rückzug.Kafka wasdete schließlich die Beziehung в ноябре 1920 года, woraufhin auch der Briefwechsel abbrach. Der freundschaftliche Kontakt zwischen beiden riss Allerdings bis zu Kafkas Tod nicht ab.
Im Inflationsjahr 1923 schließlich lernte Kafka im Ostseeheilbad Graal-Müritz Dora Diamant (Dworja Diament, jiddisch Dora Dymant) kennen. In der natürlichen und unkoketten Natur Doras erkannte Kafka endlich был ihm zu einer andauernden Beziehung gefehlt hatte.Endlich konnte er sich von Prag und seiner Familie lösen. Im сентябрь 1923 года zogen sie nach Berlin und schmiedeten Heiratspläne, die zunächst am Widerstand von Diamants Vater und schließlich an Kafkas Gesundheitszustand scheiterten. Nachdem er im April 1924 sich schwerkrank in ein kleines privates Sanatorium im Dorf Kierling bei Klosterneuburg zurückgezogen hatte, wurde er dort von der mittellosen Dora, die auf materielle Unterstützung aus dem Familien- und BeksenanntenkreИюнь 1924 гепфлегт.
Das Ende Kafkas
Im август 1917 г. Эрлитт Франц Кафка einen nächtlichen Blutsturz, es wurde eine Lungentuberkulose festgestellt, eine Erkrankung, die zur damaligen Zeit nicht heilbar war. Die Symptome besserten sich zunächst wieder, doch im Herbst 1918 erkrankte er an der Spanischen Grippe, die eine mehrwöchige Lungenentzündung nach sich zog. Danach verschlechterte sich Kafkas Gesundheitszustand von Jahr zu Jahr, trotz zahlreicher langer Kuraufenthalte , u.а. в Шелезене (Бёмен), Татранске-Матлиаре (heute Slowakei), Рива-дель-Гарда (Трентино в санатории доктора фон Хартунгена), Грааль-Мюриц (1923). Während неводы Aufenthaltes в Берлине 1923/24 griff die Tuberkulose auch auf den Kehlkopf über, Kafka verlor allmahlich sein Sprechvermögen und konnte nur noch unter Schmerzen Nahrung und Flüssigkeit zu sich nehmen. В апреле 1924 года отличный доктор Хьюго Краус, ein Familienfreund und Leiter der Lungenheilanstalt Wienerwald, in der sich Kafka zu der Zeit befand, окончательный фестиваль Kehlkopftuberkulose.
Infolge der fortschreitenden Erschöpfung konnten die Symptome nur noch gelindert werden; ein operativer Eingriff war wegen des schlechten Allgemeinzustands nicht mehr möglich. Franz Kafka reiste ab und starb am 3. Juni 1924 im Sanatorium Kierling bei Klosterneuburg im Alter von 40 Jahren. Als offizielle Todesursache wurde Herzversagen festgestellt. Begraben wurde er auf dem Neuen Jüdischen Friedhof в Праг-Страшнице. Der schlanke kubistische Grabstein von Dr. Franz Kafka und seinen Eltern mit Inschriften in deutscher und hebräischer Sprache befindet sich rechts vom Eingang, etwa 200 Meter vom Pförtnerhaus entfernt.
Kafka und die Nationalität
Kafka verbrachte den Hauptteil seines Lebens в Праге, das bis 1918 zum Vielvölkerstaat der k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn gehörte und nach dem Ersten Weltkrieg Hauptstadt der neu gegründeten Tschechoslowakei wurde. Der Schriftsteller selbst bezeichnete sich in einem Brief als deutschen Muttersprachler («Deutsch ist meine Muttersprache, aber das Tschechische geht mir zu Herzen»). Die deutschsprachige Bevölkerung в Праге, die etwa sieben Prozent ausmachte, lebte in einer «inselhaften Abgeschlossenheit» с ihrer auch als «Pragerdeutsch» bezeichneten Sprache.Diese Isoliertheit meinte Kafka auch, wenn er in dem bereits zitierten Краткое описание: «Ich habe niemals unter deutschem Volk gelebt.» Zudem gehörte er der jüdischen Minderheit an. Das politische Deutsche Reich blieb für Kafka — etwa während des Ersten Weltkriegs — weit entfernt und fand keinen Niederschlag in seinem Werk. Auch Belege für die Selbstsicht einer österreichischen Nationalität lassen sich nicht finden.
(Quelle: Wikipedia.org)
siehe auch:
Франц Кафка Введение | Шмооп
Франц Кафка Ресурсы
Книги
Франц Кафка, Метаморфоза (1915)
«Однажды утром, когда Грегор Замза очнулся от тревожных снов, он обнаружил, что в своей постели превратился в ужасного паразита.«С этой знаменитой фразы начинается мучительная аллегория отчуждения Кафки. Превращение Грегора Замсы в жука — одна из самых известных историй в современной литературе. Если вы прочитаете одну вещь Франца Кафки, то это должно быть оно.
Франц Кафка, Процесс (1925)
Этот роман, опубликованный после смерти Кафки, является одним из его самых кафкианских произведений. Главный герой Йозеф К. — обычный человек, который внезапно оказывается преследуемым теневыми властями за неназванное преступление, которого он не совершал. .Эта захватывающая история — золотой пример мастерской способности Кафки говорить о беспомощности и угрожающей абсурдности.
Франц Кафка, Америка (1927)
Этот роман, продолжение рассказа Кафки «Кочегар», рассказывает о европейском иммигранте, потерявшемся в Америке. Роман с подзаголовком «Человек, который исчез» был незаконченным на момент ранней смерти Кафки. Его фрагментарность — напоминание о великом обещании и безвременном конце Кафки.
Франц Кафка, Полное собрание рассказов (1995)
Основным средством коммуникации Кафки был рассказ.И именно через эту среду его литературная идентичность действительно просвечивает. Кафка начал писать рассказы еще в колледже и продолжал писать рассказы вплоть до своей смерти от туберкулеза в 1924 году. В этом сборнике прослеживается его развитие как художника.
Макс Брод, Франц Кафка (1947)
Макс Брод и Франц Кафка впервые подружились, будучи студентами Университета Карла-Фердинанда в Праге. Благодаря Броду мир вообще знает, кто такой Франц Кафка. Кафка назвал Брода своим литературным душеприказчиком и попросил его сжечь все бумаги, кроме нескольких, после его смерти.Брод мудро отказался и положил начало публикации многих самых известных работ Кафки. Биография Кафки — это личный взгляд на писателя со стороны человека, который хорошо его знал.
Райнер Стах, Кафка: решающие годы (2005)
Быть биографом Кафки — непростая задача. В оставленных им личных бумагах он так же измучен и трудно уловим, как и один из его персонажей. Исследования Стаха о писателе — самая полная биография, опубликованная после смерти Кафки.Это первый из трех томов, которые Стах запланировал для биографии.
Музыка
Дьердь Куртаг, Фрагменты Кафки
Эта музыкальная сюита представляет собой серию из сорока коротких пьес для скрипки и певца-сопрано, каждая из которых вдохновлена рассказом, романом или письмом Кафки. Венгерский композитор Дьердь Куртаг завершил эту работу в конце 1980-х годов — примерно в то время, когда Советский Союз начал ослаблять свою хватку в Восточной Европе, и произведения Кафки стали более доступными.
Пол Рудерс, Процесс над Кафкой
Датский композитор Пол Рудерс создал эту оперу, в которой биография Кафки сочетается со сценами из его романа об адвокате, необъяснимо преследуемом законом. Композитор Рудерс хотел, чтобы опера была комедией в стиле Кафки, то есть немного кошмарной и совсем не смешной.
Найджел Кеннеди, Кафка
Скрипач Найджел Кеннеди — бывший вундеркинд, который теперь сделал карьеру зрелого музыканта.Песни на этом альбоме для акустической и электрической скрипки сильно различаются по жанрам — от джаза до ближневосточного и хэви-метала. Связь с Кафкой? Что ж, это должен знать Кеннеди, а вам — попытаться понять, пока вы слушаете.
Socos & The Live Project Band, Kafka
The Live Project Band — экспериментальная рок-группа из Афин, Греция. Их альбом 2007 года, Kafka , представляет собой двойной набор песен, вдохновленных Францем Кафкой. Как и сам автор, песни не поддаются простой классификации.
Lost Valentinos, «Kafka»
«Kafka» — песня с первого альбома необычной австралийской группы Lost Valentinos. Он использует смерть Кафки как метафору боли разрыва. Тяжелый.
Кафка, Истины
Они действительно любят Франца К. Даун-Андерс. Kafka — фанк-группа (точное количество участников колеблется) из Брисбена, Австралия. Судя по странице группы на MySpace, ее основатели объединились из-за общего восхищения «джазом, фанком»… и русских и чешских писателей XVIII века. «Мы копаем.
Изображения
Франц Кафка
Портрет автора.
Маленькая Кафка
Фотография Франца Кафки, 5 лет.
Кафка, 1906
Фотография автора, сделанная, когда ему было около 23 лет.
Подпись Кафки
Автор Джонни Хэнкок.
Могила Кафки
Место захоронения Кафки на Новом еврейском кладбище в Праге.
Воск Кафка
Статуя Франца Кафки в Пражском музее восковых фигур.
Кино и телевидение
Кафка (1990)
Этот фильм с мрачным актером Джереми Айронсом в главной роли не является биографическим фильмом о Франце Кафке и не основан непосредственно на каких-либо работах Кафки. Вместо этого режиссер Стивен Содерберг решил сделать фильм более кафкианский, чем сам Кафка. Кафка — главный герой — тайный писатель, который трудится в 1919 году в Праге, высасывая душу.Вскоре он попадает в сеть обмана и преследований прямо из книги The Trial .
Франц Кафка (1992)
Это малоизвестный короткометражный анимационный фильм писателя и режиссера Петра Думала. Думала создал уникальную форму анимации, в которой использовались краска и песок, обработанные на штукатурке — это трудно описать, но за ними интересно смотреть.
Процесс (1962)
Эксцентричный кинорежиссер Орсон Уэллс был идеальным кандидатом для адаптации душераздирающего рассказа Кафки о человеке, которого власти преследовали и пытали по причинам, которые никто не объяснит.Мартин Скорсезе и Леонардо Ди Каприо смотрели адаптацию Уэллса «Испытание » для вдохновения, когда они создавали триллер « Shutter Island ».
Испытание (1993)
Это более буквальная интерпретация романа Кафки с Кайлом Маклахланом в главной роли Джозефа К. и Энтони Хопкинсом в роли Священника. Его написал уважаемый лауреат Нобелевской премии драматург Гарольд Пинтер, достойный обработчик прозы Кафки.
«Это прекрасная жизнь» Франца Кафки (1993)
Это короткометражный фильм, получивший «Оскар», сочетающий в себе «Метаморфозы » Кафки и веселую классику Фрэнка Капры «Это прекрасная жизнь ».Теперь, когда они упоминают об этом, мы действительно видим параллели. В одном из них Грегор Замза просыпается и обнаруживает себя насекомым; в другом Джордж Бейли внезапно обнаруживает себя призраком.
Метаморфоза (2002)
Российский режиссер Валерий Фокин создал эту адаптацию фильма Метаморфоза . По понятным причинам — действительно тяжело поиграть в баг — этот текст сложно адекватно адаптировать к экрану. Но этот арт-хаусный фильм однозначно стоит посмотреть.
Сайты
В поисках Кафки в Праге
Какой классный и креативный сайт! Веб-дизайнер Элис Уиттенбург и писатель Грег Эванс объединились для создания этого интерактивного сайта, который исследует современную Прагу в поисках настоящей Кафки.Он сочетает в себе фотографии, текст и звук, чтобы создать ощущение, будто вы действительно идете по городу по стопам Кафки.
Франц Кафка: Das Schloss
Этот сайт, управляемый Джеффом Новаком и Алленом Б. Рухом, представляет собой увлекательный сборник цитат, критических замечаний, биографий и библиографии Кафки. Это хорошее место, чтобы щелкнуть по нему, если вам интересно узнать больше о Kafka.
Проект Kafka
Проект Kafka — это амбициозное веб-предприятие, цель которого — сделать все работы Кафки (на немецком языке) доступными в Интернете.Не говорите по-немецки? Организаторы сайта также стараются размещать переводы произведений, когда они будут доступны, в том числе несколько на английском языке.
Моя дань уважения Францу Кафке
Поклонник Кафки Брайан Херцог создал эту страницу как дань уважения своему литературному кумиру. Это хороший веб-ресурс, на котором опубликовано несколько малоизвестных работ и фрагментов Кафки. Он также служит своего рода дискуссионным форумом среди поклонников Kafka, где Херцог и другие читатели взвешивают свои интерпретации.
Общество Франца Кафки
Общества, посвященные Францу Кафке, существуют по всему миру. Но тот, кто живет в его родной Чехии (Богемия, как ее называли при жизни Кафки), является одним из самых активных. На их сайте есть хорошая информация об авторе. Общество также присуждает ежегодную премию Франца Кафки — престижную международную награду, присуждаемую писателям, чьи работы охватывают разные страны и культуры.
Биография Франца Кафки
Эта страница похожа на онлайн-альбом с подробностями о Кафке.В нем были воспроизведены основные документы, такие как объявление о помолвке, а также фотографии его семьи, друзей и любовников. Полистать интересно. Однако мы не можем понять, почему главная страница kafka-franz.com предназначена для продажи квартир в Майами.
Видео и аудио
Франц Кафка — Рок-опера!
Это именно то, на что похоже — мультяшная рок-опера про Кафку. И это круто.
The Onion : «Международный аэропорт Праги имени Франца Кафки назван самым отчужденным аэропортом в мире»
Это шутка — повторяю, это шутка.Но забавный. Посмотрите этот репортаж о фейковых новостях из The Onion .
Metamorphosis
Аудиокнига по роману Кафки.
Франц Кафка Петра Думала
Захватывающий анимационный фильм о писателе.
The Country Doctor
Короткометражный аниме-фильм (на японском языке с английскими субтитрами) по рассказу Кафки.
Метаморфоза
Спорная адаптация известного романа режиссера Карлоса Атанеса.
Первичные источники
Метаморфоза
Электронный текст романа Кафки на английском языке.
The Trial
Английский перевод романа Кафки.
«Голодный художник»
Текст рассказа Кафки.
«Перед законом»
Фрагмент работы Кафки.
«Беседа с просителем»
Текст рассказа Кафки, также называемого «Беседа с молящимся».»
» Сдавайся «
Призрачный фрагмент Кафки.
биография Макса Брода
- Домой
- Мои книги
- Обзор ▾
- Рекомендации
- Награды Choice Awards
- Жанры
- Подарки
- Новые выпуски
- Списки
- Изучить
- Биография 904
- Бизнес
- Детский
- Христиан
- Классика
- Комиксы
- Поваренные книги
- Электронные книги
- Фэнтези
- Художественная литература
- Графические романы 407 Истории 499 Истории 499 Музыка
- Тайна
- Документальная литература
- Поэзия
- Психология
- Романтика
- Наука
- Научная фантастика
- Самопомощь
- Спорт
- Триллер
- Для взрослых 905 Триллер
- Путешествия Молодежь 904 461
- Сообщество ▾
- Группы
- Обсуждения
- Цитаты
- Спросите автора
Kafka Дэвид Зейн Майровиц
- Домой
- Мои книги
- Обзор ▾
- Рекомендации
- Choice Awards
- Жанры
- Подарки
- Новые выпуски
- Списки
- Изучить
- Источники и интервью
- Бизнес
- Детский
- Христианин
- Классика
- Комиксы
- Поваренные книги
- Электронные книги
- Фэнтези
- Художественная литература
- Графические романы
- Художественная литература
- Графические романы
- Историческая музыка Фантастика
- Историческая музыка
- Тайна
- Документальная литература
- Поэзия
- Психология
- Романтика
- Наука
- Научная фантастика
- Самопомощь
- Спорт
- Триллер
- Для взрослых
- Для взрослых 904 461
- Сообщество ▾
- Группы
- Обсуждения
- Цитаты
- Задать вопрос автору
- Войти
- Присоединиться
- Рекомендации
- Choice Awards
- Жанры
- Подарки
- Новые выпуски
- Списки
- Изучите
- Новости и интервью
- Бизнес
Франц Кафка.Биография сейнера Jugend Клауса Вагенбаха
- Домой
- Мои книги
- Обзор ▾
- Рекомендации
- Награды Choice Awards
- Жанры
- Подарки
- Новые выпуски
- Списки
- Новости и интервью
- Биография
- Бизнес
- Детский
- Христиан
- Классика
- Комиксы
- Поваренные книги
- Электронные книги
- Фэнтези
- Художественная литература
- Графические романы
- Художественная литература
- Графические романы Музыка Историческая музыка Художественная литература
- Тайна
- Документальная литература
- Поэзия
- Психология
- Романтика
- Наука
- Научная фантастика
- Самопомощь
- Спорт
- Триллер
- Молодежь
- Путешествия 904 461
- Сообщество ▾
- Группы
- Обсуждения
- Цитаты
Франц Кафка.Биография | Эссе
Франц Кафка — австрийский писатель, один из основоположников модернистской прозы, оказавший огромное влияние на литературу, искусство и культуру ХХ века. В его творчестве глубина понимания стержневых проблем духовной жизни Нового времени сочетается с оригинальной образностью, балансирующей на грани гротеска и повседневности, трагизма и иронии. Не получив достойного признания при жизни, этот писатель после смерти приобрел славу блестящего пророка, предвидевшего духовные и исторические катаклизмы ХХ века.
Жизнь Ф. Кафки в датах и фактах
3 июля 1883 г. — родился в Праге в семье среднего купца.
1893 -1901 гг. — учился в Немецкой государственной гимназии, после чего поступил в
Пражский университет для изучения юриспруденции.1906 г. — получил звание доктора права и устроился на работу в страховую компанию.
1909 г. — вышла первая публикация писателя, представляющая отрывки из неоконченного рассказа «Описание одной борьбы».
1911 — побывал в Италии, Швейцарии, Франции.
1912 г. — начата работа над романом «Пропавший без вести»; написал рассказы «Преображение» и «Вердикт».
1913 г. — издан сборник рассказов «Созерцание».
1914 г. — начал работу над романом «Процесс».
1915 г. — удостоен престижной награды им. Т. Фонтане.
1917 г. — заболел туберкулезом.
1919 — опубликовал сборник рассказов «Сельский лекарь», а также написал знаменитое «Письмо к отцу.
1922 год — из-за стремительного развития болезни оставил службу в системе страхования и полностью сосредоточился на литературном творчестве.
