Письма к Фелиции — Франц Кафка
Франц Кафка Письма к Фелиции
1912
Сентябрь
20.09.1912
Многоуважаемая сударыня!
На тот – легко допустимый – случай, если Вы обо мне совсем ничего не вспомните, представлюсь еще раз: меня зовут Франц Кафка, я тот самый человек, который впервые имел возможность поздороваться с Вами в Праге в доме господина директора Брода и который затем весь вечер протягивал Вам через стол одну за одной фотографии талийского путешествия, а в конце концов вот этой же рукой, которая сейчас выстукивает по клавишам, сжимал Вашу ладонь, коим рукопожатием было скреплено Ваше намерение и даже обещание на следующий год совершить вместе с ним путешествие в Палестину.
Если охота предпринять поездку у Вас еще не пропала – Вы ведь сами сказали, что непостоянством не отличаетесь, да и я ничего похожего в Вас не заприметил, – тогда нам не только стоило бы, но даже просто необходимо попытаться об этом путешествии как следует договориться.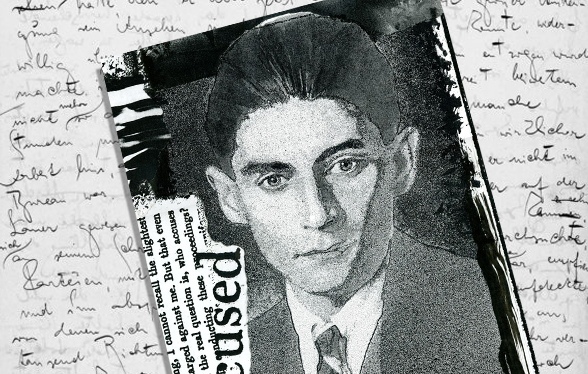
В одном только я вынужден признаться, как ни скверно это звучит и как ни плохо вяжется со всем предыдущим: я очень неаккуратен в переписке. Впрочем, дело обстояло бы еще хуже, не будь у меня пишущей машинки, ибо даже когда у меня совсем нет настроения для письма, кончики пальцев всегда тут как тут. Впрочем, в награду за это я никогда не жду и ответной пунктуальности от адресата; даже ожидая ответного письма изо дня в день с возрастающим нетерпением, я совсем не огорчаюсь, когда письма нет, когда же оно наконец приходит, я, бывает, даже пугаюсь. Сейчас, закладывая в машинку новый лист, я замечаю, что, пожалуй, перегнул палку в живописании собственного тяжелого характера. Что ж, если я и впрямь допустил такую промашку, поделом мне, не надо было приниматься за это послание на шестом часу рабочего дня, да еще писать его на машинке, с которой я еще не очень-то в ладах.
И тем не менее, тем не менее – кстати, единственный недостаток писания на машинке как раз в том, что случается иногда вот этак зарапортоваться, – даже если у Вас возникают сомнения относительно того, чтобы взять меня с собой в путешествие в каком хотите качестве – дорожного спутника, путеводителя, балласта, тирана, – равно как и сомнения относительно меня как корреспондента (пока что ведь у нас речь лишь об этом), – не стоит торопиться с отрицательными решениями, может, лучше все же попробовать меня в одном из этих качеств?
Искренне Ваш
д-р Франц Кафка.
28.09.1912
Уважаемая сударыня!
Извините, что пишу Вам не на машинке, но мне так несусветно много надобно Вам поведать, машинка же стоит в коридоре, к тому же письмо представляется мне настолько безотлагательным, а у нас в Чехии сегодня праздник (что, впрочем, с вышестоящим извинением связано не настолько уж строго), к тому же машинка пишет, на мой вкус, недостаточно быстро, погода сегодня дивная, окно у меня распахнуто (но я всегда живу с открытыми окнами), в контору я, чего давно уже не случалось, пришел напевая, и не жди меня здесь Ваше письмо, я и вообразить бы не мог, с какой стати мне в праздничный день являться на службу.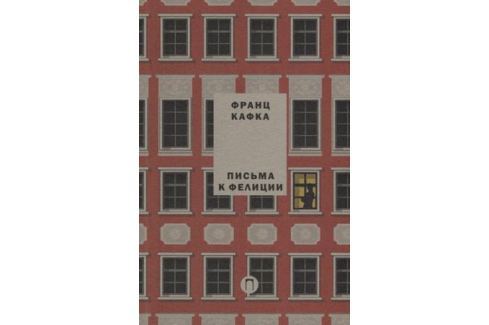
Как я раздобыл ваш адрес? Вы же не об этом спрашиваете, когда спрашиваете об этом. Что ж, Ваш адрес я попросту выклянчил. Сперва мне назвали только какое-то акционерное общество, но оно мне не понравилось. Потом я узнал Ваш домашний адрес, правда, без номера квартиры, а уж после и сам номер. Заполучив адрес, я успокоился и тем более не писал: обладания адресом мне казалось достаточно, а кроме того, я боялся, что адрес неправильный, ибо, в самом деле, кто такой этот Иммануил Кирх? А нет ничего печальнее, чем письмо, посланное по неточному адресу, это уже и не письмо вовсе, а скорее вздох. И только разузнав, что на вашей улице стоит кирха св. Иммануила, и расшифровав таким образом сокращение Иммануил-Кирхштрассе, я снова на некоторое время успокоился. Правда, теперь мне к Вашему адресу недоставало указания на сторону света, в Берлине это ведь почти неотъемлемая примета всякого адреса. Будь на то моя воля, я поселил бы Вас где-нибудь в северной части города, пусть даже это и бедные места, как мне почему-то кажется.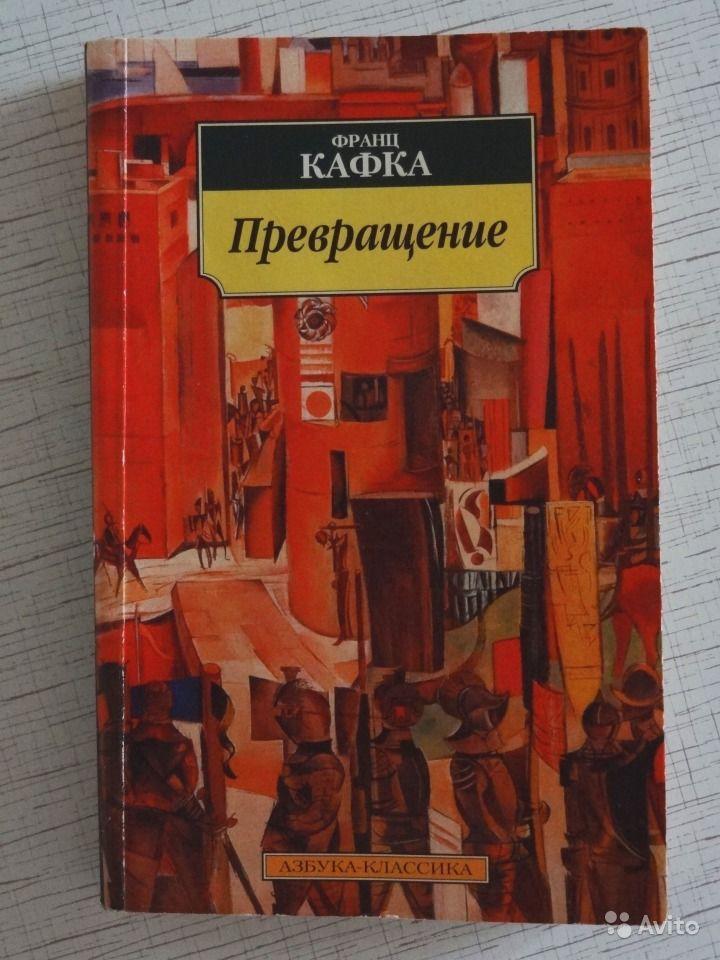
Но и помимо хлопот с адресом (тут в Праге никто толком не знает, какой у вас номер дома – 20 или 30) – чего только не пришлось вытерпеть этому моему разнесчастному письму, прежде чем оно было написано. Теперь, когда дверь между нами начинает приоткрываться или, по крайней мере, когда мы с двух сторон взялись за ручки, я могу, а пожалуй что и обязан в этом признаться. Какие только капризы не помыкают мной, сударыня! Нервические странности падают на меня беспрерывным дождем. То я хочу одного, то, через секунду, совсем другого. Уже поднявшись по лестнице, я все еще не знаю, в каком состоянии войду к себе в квартиру. Приходится нагромождать в себе разные нерешительности, пока они не перерастут в некую маленькую решимость или вот в письмо. Как же часто – без преувеличения, вечеров десять – я перед сном сочинял то свое первое письмо к Вам. Но это одна из моих бед: ничего из того, что я тщательно продумал заранее, я потом не в состоянии записать разом, в один прием. У меня очень слабая память, но даже самая прекрасная память не помогла бы мне в точности воспроизвести пусть даже самый маленький, загодя придуманный или просто намеченный пассаж, ибо внутри каждого предложения есть связи и переходы, остающиеся как бы подвешенными.
Впрочем, на этом пути я никогда не доберусь до конца. Болтаю о своем предыдущем письме, вместо того чтобы писать Вам все то многое, что хочу написать. Заметьте себе, почему это письмо обрело для меня такую важность. Оно обрело важность, потому что Вы мне на него ответили, и это Ваше ответное послание лежит сейчас рядом и дарит мне счастливые минуты дурацкой радости, когда я кладу на него руку, дабы удостовериться, что я и вправду им обладаю.

Ваш Франц Кафка.
Октябрь
13.10.1912
Милостивая сударыня!
Две недели назад в десять часов утра я получил от Вас первое письмо и спустя какие-то минуты уже сидел за ответным посланием, написав Вам четыре страницы неимоверного формата. О чем и сейчас нисколько не сожалею, ибо провести то время с большей радостью было нельзя, сожалеть же приходится только о том, что написанное тогда так и осталось крохотным началом, написать хотелось гораздо больше, так что подавленная в себе часть письма еще долго, целыми днями распирала меня и не давала покоя, покуда беспокойство это не сменилось ожиданием Вашего ответа и все более слабеющей надеждой этот ответ получить.
Так почему же Вы мне не написали? – Возможно, а с учетом поспешности того моего письма даже вполне вероятно, что Вы наткнулись там на какую-нибудь глупость, которая могла Вас смутить, но искренность и доброта намерений, сквозивших в каждом моем слове, ведь не могли же от Вас ускользнуть. – Или, может, какое-то из писем затерялось? Но мое было отправлено с таким тщанием, а Вашего ждут с таким рвением, что затерять их просто не могли… Да и теряются ли вообще письма – даже те, которых ждут уже почти без надежды, из одного только необъяснимого упрямства? – Или, может, Вам не передали мое письмо из-за упоминания о палестинской затее, которую не одобряют Ваши домашние? Но возможно ли такое в семье, а тем паче по отношению к Вам? А ведь письмо мое, по моим расчетам, должно было дойти до Вас еще в воскресенье утром. – В таком случае остается только одно печальное предположение – что Вы прихворнули. Но и в это я верить не хочу, Вы наверняка здоровы и радуетесь жизни. – Все остальное мой разум просто отказывается понимать, и я пишу это письмо не столько в надежде на ответ, сколько во исполнение долга перед самим собой.
Будь я почтальоном, что разносит письма по Вашей Иммануил-Кирхштрассе, я бы с этим письмом в руках, минуя одного за другим всех изумленных членов Вашего семейства, через все комнаты прошел бы прямо в Вашу и вложил бы конверт Вам прямо в руку; а еще лучше – сам оказался бы под дверями Вашего дома и долго, бесконечно долго жал на кнопку звонка, с восторгом и упоением предвкушая долгожданную, все сомнения и напряжения разряжающую встречу, исполненную для меня упоения и восторга.
Ваш Франц К.
23.10.1912
Милостивая сударыня!
Даже если бы все три заместителя директора стояли сейчас над моим столом, заглядывая мне через плечо, я все равно ответил бы Вам немедленно, ибо Ваше письмо упало на меня как дар небес, на которые я уже три недели в тщетном уповании взираю. (Кстати, предположение насчет начальственного присмотра незамедлительно подтвердилось, правда, только в лице моего непосредственного начальника.) Доведись мне отвечать на присланное Вами описание Вашего нынешнего житья-бытья той же монетой, мне пришлось бы сказать, что жизнь моя по меньшей мере наполовину состояла из ожидания Вашего письма, к коей половине я бы причислил еще три маленьких послания, которые я написал Вам за эти три недели (меня между тем расспрашивают о страховании заключенных, Бог ты мой!) и из которых два теперь с грехом пополам еще можно Вам отослать, тогда как третье, хотя в действительности-то оно первое, отправлено быть никак не может. Так, значит, письмо Ваше затерялось (только что мне пришлось заявить, что о министерской жалобе некоего Йозефа Вагнера из Катаринаберга я ровным счетом ничего не знаю), и ответов на свои давешние вопросы мне уже не видать, при том что вины моей в этой утрате нет никакой.
А я по поводу этой утраты все никак не успокоюсь, не могу сосредоточиться, готов весь мир засыпать жалобами, хотя сегодня жизнь уже совсем не та, что вчера, но накопившаяся тоска по-прежнему не отпускает, норовит выплеснуться из прошлого и омрачить настоящее.
Выходит, то, что я Вам сегодня пишу, это не ответ на Ваше письмо, ответом, быть может, станет письмо завтрашнее, а то и вовсе послезавтрашнее. И манера писать у меня не сама по себе такая дурацкая, она дурацкая ровно настолько, насколько отражает мой нынешний образ жизни, который я Вам тоже когда-нибудь смогу живописать.
А Вас между тем по-прежнему задаривают! И все эти книги, конфеты и цветы громоздятся прямо на письменном столе у Вас на работе? У меня на столе только обычный канцелярский разгром, а Ваш цветок, за который целую Вам руку, я поскорее спрятал в бумажник, где, невзирая на теперь уже невосполнимую утрату одного письма, хранятся два других Ваших послания, одно, правда, адресовано Максу, но я его у него выклянчил, пусть это и смешно немного, но Вы, надеюсь, за это на меня не в обиде.
Наверно, даже хорошо, что в переписке нашей с самого начала вышла такая заминка, я теперь знаю, что смогу писать Вам, даже когда ответы Ваши не доходят. Но больше письма теряться не должны. – Всего вам хорошего, и не забудьте про маленький дневник.
Ваш Франц К.
24.10.1912
Милостивая сударыня!
Ах, какая сегодня была трудовая бессонная ночь, – только под конец ее, свернувшись калачиком, я чуть ли не силой принудил себя к двум часам натужной, почти искусственной дремы, когда и сон не в сон, и сны не сны. А с утра в подъезде на меня еще налетел ученик мясника с лотком, деревянный угол которого я и сейчас еще вполне болезненно ощущаю у себя под левым глазом.
Разумеется, такое начало дня не лучшим образом помогает преодолевать трудности, с коими связано для меня писание писем Вам, трудности, которые и этой ночью в самых разных формах проходили перед моим мысленным взором. Трудности эти вовсе не от моего неумения высказать то, о чем я хочу написать, ибо хочу я написать о самых простых вещах, но вещей этих столько, что я не в силах разместить их во времени и пространстве. Иногда, осознавая это свое бессилие, – правда, такое бывает только ночью, – я готов все бросить и никогда больше не писать, ибо лучше уж умереть от ненаписанного, чем от писанины.
Вы пишете, что часто ходите в театры, меня это интересует очень, потому что, во-первых, Вы там, в Берлине, находитесь в самом центре театральных событий, во-вторых, Вы с большим вкусом выбираете театры для посещений (за исключением «Метрополя», в котором и мне случалось побывать, я там зевал так, что боялся проглотить сцену), в-третьих, сам я по части театра полный профан. Но, опять-таки, много ли проку читать о Ваших театральных походах, если я не знаю всего, что им предшествовало, и всего, что было после, не знаю, во что Вы были одеты, какой был день недели и какая в тот день стояла погода, когда Вы ужинали – до театра или после, где Вы сидели, в каком были настроении и почему именно в таком, а не другом, и так далее, и так до бесконечности. Разумеется, совершенно невозможно, чтобы Вы написали мне обо всем этом, но точно так же невозможно и все остальное.
Самое позднее весной в издательстве Ровольта в Лейпциге должен выйти «Ежегодный альманах изящной словесности», который издает Макс. Там будет напечатан и мой маленький рассказ, «Приговор», с посвящением «Мадемуазель Фелиции Б.».
Надеюсь, Вы не воспримете это как бесцеремонное посягательство? Особенно если учесть, что посвящение предваряет рассказ уже больше месяца, а рукопись уже выпущена мною из рук. Возможно, извинением мне послужит то обстоятельство, что вторую часть посвящения – «Мадемуазель Фелиции Б., чтобы она получала подарки не только от других» – я все-таки заставил себя опустить? По сути же история эта, сколько я могу судить, к Вам лично ни малейшего отношения не имеет, разве что там мельком упоминается девушка Фрида Бранденфельд, то есть, как я лишь после осознал, с такими же, как у Вас, инициалами. Единственная связь с Вами состоит, пожалуй, лишь в том, что маленький этот рассказик издали пытается быть достойным Вас. Что и стремится выразить посвящение.
Всего наилучшего, и не сердитесь за каждодневную обязанность расписываться в получении заказной корреспонденции.
Ваш Франц К.
27.10.1912
Милостивая сударыня!
Наконец-то в восемь часов вечера – и это в воскресенье – я могу сесть за письмо к Вам, хотя все, чем я в течение целого дня занимался, имело целью как можно скорее за это письмо приняться. Вы-то сами весело проводите воскресенья? Ну конечно же, после Вашей-то изматывающей работы! Для меня, по крайней мере в последние полтора месяца, каждое воскресенье – это чудо, манящее сияние которого я начинаю прозревать уже в понедельник с утра, едва проснувшись. Главная же трудность после этого – как протянуть целую неделю до следующего воскресенья, как протащить воз работы сквозь все эти будни, когда к пятнице ты окончательно выбиваешься из сил и, кажется, все, мочи нет. Когда вот так, час за часом, проводишь неделю, когда даже при свете дня ты в силах сосредоточиться лишь ненамного больше, чем нескончаемой бессонной ночью, и когда вдруг оглянешься на себя посреди беспощадной машинерии такой вот недели, – тогда поневоле начнешь радоваться, что эти безотрадные, тоскливые дни не обваливаются на месте, чтобы тут же начать медленно вздыматься вновь, а все-таки худо-бедно проходят, влачатся, и тебя наконец-то ждет благодатная передышка вечера и подступающей ночи.
По воскресеньям я тоже веселею, но не сегодня; сегодня, исполняя повинность обязательной воскресной прогулки, я бродил под дождем; полдня – это лишь по видимости противоречит сказанному в первых строках – провел в постели, наилучшем прибежище для задумчивости и печали…
Хорошо же, однако, я Вас развлекаю! Милая барышня, может, мне лучше просто встать из-за стола и бросить на сегодня всю писанину? Но, быть может, Вы все видите насквозь и знаете, что в конечном счете я все равно очень счастлив, и тогда мне можно остаться и писать дальше.
В Вашем письме Вы упомянули, насколько неуютно чувствовали себя в Праге тем вечером, и хотя сами Вы об этом не сказали, а возможно, даже и не подумали, все-таки чувствуется, что ощущение неуюта вошло в тот вечер только вместе со мной, ибо до этого Макс еще почти не успел заговорить о своей оперетте, тем паче что она и вообще-то не слишком занимала его заботы и мысли, и только я, явившись со своей нелепой папкой, нарушил общее настроение. Кроме того, это была как раз та странная полоса в моей жизни, когда я во время своих все более частых визитов позволял себе сомнительное удовольствие досаждать Отто Броду, который придает особое значение своевременному отходу ко сну, нескончаемыми разглагольствованиями, по мере продвижения стрелки часов все более и более оживленными, покуда обычно объединенными и, разумеется, дружелюбно-ласковыми усилиями всего семейства не бывал выставлен из квартиры на улицу. Вследствие чего мое появление в доме в столь поздний час – девять, по-моему, уже миновало – наверняка было воспринято как угроза. То есть в сознании членов семьи два наших визита вызывали трудно совместимые чувства: с одной стороны Вы, кому предназначалась только искренняя доброта и любезность, и с другой же стороны я, так сказать, завзятый шатун-полуночник. Для Вас, к примеру, музицировали на рояле, тогда как для меня Отто начинал возиться с экраном камина – занятие, которое давно уже стало в доме специально предназначенным для меня условным сигналом отхода ко сну, но, если этого не знать, выглядит довольно странным и утомительным. Что до меня, то я, совершенно не готовый встретить в доме такую гостью, пришел всего лишь на условленную встречу с Максом (мы договорились на восемь, но я, как водится, на час опоздал), чтобы обсудить с ним расположение вещей в рукописи, о чем своевременно подумать не удосужился, а ее на следующее утро уже надо было нести на почту. И тут вдруг застаю в доме незнакомку и испытываю по этому поводу даже некоторую досаду. Тем не менее я почему-то повел себя так, будто визит Ваш для меня никакой не сюрприз. Я первым, прежде чем меня успели Вам представить, через огромный стол протянул Вам руку, хотя Вы едва приподнялись мне навстречу, не имея, очевидно, ни малейшего намерения мою руку пожимать. Я только мельком на Вас глянул, сел и сразу почувствовал, что все вокруг хорошо, едва только ощутил исходящие от Вас легкие токи ободрения, которые всегда пробуждает во мне присутствие незнакомого человека в знакомом обществе. За вычетом того, что просмотреть вместе с Максом рукопись уже не удастся, протягивать Вам фотографии талийского путешествия оказалось премилым занятием. (За эти последние слова, вполне точно отражающие мое настроение в тот вечер, я сегодня, вдали от Вас, готов себя тогдашнего просто избить.) Вы отнеслись к просмотру фотографий очень серьезно и отрывали от них глаза, только когда Отто что-то пояснял или когда я протягивал Вам следующий снимок. Кто-то из нас, уже не помню кто, по поводу одной из фотографий сказал что-то явно невпопад. Из-за фотографий Вы напрочь забыли о еде, а когда Макс обронил по этому поводу какое-то замечание, возразили, что нет, мол, ничего омерзительнее людей, которые беспрерывно жуют. Тут зазвонил телефон (между тем у меня здесь уже давно миновало одиннадцать вечера, когда для меня начинается главная моя работа, а я все еще не могу оторваться от этого письма), так вот, зазвонил телефон, и Вы стали пересказывать начальную сцену из оперетты «Девушка в авто», которую слушали в «Резиденцтеатре» (есть у вас «Резиденцтеатр»? Это точно была оперетта?): там пятнадцать человек на сцене, а в передней звонит телефон, и потом каждого по очереди одними и теми же вычурными словами зовут к аппарату. Я отлично помню даже само это французское выражение, но написать его не решусь, потому что не то что написать, а даже выговорить толком его не сумею, хотя тогда не только отлично его расслышал, но даже прочитал по Вашим губам, и хотя впоследствии оно то и дело вертелось у меня в голове, тщетно стремясь обрести неискаженную форму. Не помню уже, каким образом затем (хотя нет, до того, ибо я все еще сидел у двери, наискосок против Вас) разговор перешел на побои и в этой связи на Ваших сестер и братьев. Были названы имена некоторых членов Вашего семейства, прежде мне совершенно незнакомые, в том числе и имя Ферри (может, это Ваш брат?), и Вы рассказали, что, когда были маленькой, старшие братья, родные и двоюродные, часто Вас поколачивали, а Вы чувствовали себя совершенно беззащитной. Вы еще провели рукой по левому предплечью, которое у Вас тогда все было сплошь в синяках. Но вид у Вас при этом был вовсе не страдальческий и не беззащитный, так что я, сам, правда, толком не понимая почему, совершенно не мог себе представить, как это кто-то отваживался Вас бить, пусть Вы и были тогда совсем крохой. – Потом Вы между делом, что-то просматривая или читая (Вы вообще слишком редко поднимали глаза, а вечер был такой короткий!), упомянули, что изучали еврейский. С одной стороны, меня это удивило, с другой же – мне захотелось (но все это тогдашние мои мнения, прошедшие с тех давних пор через столько мельчайших сит!), чтобы упоминание не было столь нарочито мимолетным, поэтому втайне я испытал легкое злорадство, когда позднее Вы не сумели прочесть на обложке название Тель-Авив. – Еще, все в той же комнате, речь зашла о Вашей работе, а госпожа Брод упомянула о нарядном батистовом платье, которое видела в Вашем гостиничном номере, ведь Вы ехали к кому-то на свадьбу, и свадьба эта – тут я скорее говорю почти наугад, чем вспоминаю, – должна была состояться в Будапеште. Когда Вы встали, выяснилось, что на Вас домашние шлепанцы госпожи Брод, потому что сапожки Ваши сохнут. Погода в тот день и вправду была ужасная. В этих шлепанцах Вы, должно быть, чувствовали себя неловко и в конце нашего прохода через темную среднюю комнату даже успели сказать мне, что привыкли к домашним туфлям на каблуках. А я о таких туфлях прежде не слыхивал. – В музыкальной гостиной Вы опять оказались напротив меня, и тут я начал листать и раскладывать свой манускрипт. На меня со всех сторон посыпались самые причудливые советы относительно рукописи и ее пересылки, в том числе и Ваши, но я уже не припомню точно, какие именно. Зато я хорошо запомнил эпизод еще в предыдущей комнате, который до того меня удивил, что я даже по столу пристукнул. Это когда Вы сказали, что переписывание рукописей доставляет Вам удовольствие, Вы, мол, в Берлине часто переписываете для одного господина (проклятье, как же нелепо звучит это слово без причитающихся к нему имени, фамилии или хоть каких-нибудь пояснений!), и попросили Макса присылать Вам рукописи. Самой большой моей удачей в тот вечер было случайно захватить с собой номер журнала «Палестина», и да простится мне ради этого все остальное. Путешествие в Палестину – вот что мы с Вами стали обсуждать, и в залог обещания Вы даже протянули мне руку, а вернее, это я, силой внезапного озарения, выманил у Вас рукопожатие. – Покуда музицировали, я сидел наискосок позади Вас, Вы закинули ногу на ногу и то и дело поправляли прическу, которую я анфас представить себе не могу, зато во время концерта имел возможность отметить, что сбоку она слегка распушилась. – Затем, правда, в обществе наступила некая разрозненная вялость, госпожа Брод тихо клевала носом на кушетке, господин Брод нашел себе занятие возле книжного шкафа, а Отто вступил-таки в сражение с каминным экраном. Разговор зашел о книгах Макса, Вы что-то заметили об «Арнольде Беере», упомянули рецензию «Ост унд Вест», а под конец, листая томик полного собрания Гете в издании «Пропилеи», сказали, что и «Замок Норнепигге» тоже пытались читать, но до конца не осилили. На этих Ваших словах я просто обмер от страха – за себя, за Вас и за всех прочих. Разве не прозвучала эта фраза совершенно бессмысленным и к тому же необъяснимым оскорблением? Вы, однако, спокойно завершили свой катастрофически непоправимый пассаж, даже не подняв склоненной над книгой головы под нашими оторопелыми взорами. И вдруг оказалось, что это никакой не ляпсус и вообще ни в малейшей мере не оценка, а всего лишь житейский факт, которому Вы сами удивляетесь, почему и намерены при случае снова за эту книгу взяться. Просто невозможно было спасти положение изящней, и я тогда подумал, что всем нам должно быть перед Вами немного стыдно. – Чтобы как-то сменить тему, господин директор вытащил иллюстрированный том все того же издания «Пропилеи» и объявил, что сейчас покажет Вам Гете в подштанниках. На что Вы процитировали: «Король – он и в подштанниках король», и вот эта цитата оказалась единственным, что мне в Вас в тот вечер не понравилось. Причем я ощутил досаду за Вас почти физически, будто комком в горле, и уже тогда должен был бы спросить себя, с какой это стати я так за Вас переживаю. Впрочем, я описываю все ужасно неточно. – Быстрота, с которой Вы под конец вечера выскользнули из комнаты и вдруг объявились уже в сапожках, оказалась для меня вообще непостижимой. Хотя сравнение с газелью, к которому госпожа Брод прибегла дважды, мне не понравилось. – Довольно точно вижу, как Вы надевали шляпу и закалывали булавки. Шляпа была довольно большая, с белой подкладкой. – На улице я тотчас же впал в одно из тех, отнюдь не редких, сумеречных своих состояний, когда ничего, кроме собственной никчемности, вокруг не замечаю. На Перлгассе Вы, вероятно, чтобы как-то вывести меня из неловкого молчания и желая понять, по дороге нам или нет, спросили, где я живу, на что я, идиот несчастный, поинтересовался в ответ, угодно ли Вам узнать мой адрес, сдуру вообразив, что Вы, едва приехав в Берлин, в пожарном порядке кинетесь списываться со мной насчет путешествия по Палестине и не хотите оказаться в отчаянном положении человека, жаждущего отправить мне послание, не имея под рукой адреса. – Эта произведенная мною неловкость всю дальнейшую дорогу не давала мне покоя, окончательно сбив меня с толку, если вообще было с чего сбивать. – Еще наверху, в первой из комнат, но и потом на улице разговор заходил о некоем знакомом из Вашего пражского филиала, который в тот день после обеда катал Вас на извозчике на Градчаны. Именно мысли об этом знакомом, похоже, и помешали мне на следующее утро явиться на вокзал с цветами, хотя что-то подобное робко и брезжило в моем сознании. Но ранний час Вашего отъезда и невозможность в столь краткий срок раздобыть цветы облегчили мое решение от этой идеи отказаться. – На Обстгассе и Грабене беседу поддерживал в основном господин директор Брод, а Вы только успели рассказать историю о том, как мать открывает Вам входную дверь по условному сигналу, когда Вы на улице хлопаете в ладоши, – по поводу этой истории Вам, кстати, еще придется кое-что мне объяснить. Остальное же время самым позорным образом было разбазарено на сопоставление пражского и берлинского общественного транспорта. Помню, Вы еще успели рассказать, что перекусили в Большом торговом доме на Грабене напротив отеля. Под конец господин Брод дал Вам несколько дорожных напутствий, назвав станции, на которых можно купить какую-нибудь снедь. Но Вы намеревались позавтракать в вагоне-ресторане. Тут выяснилось, что Вы забыли в поезде свой зонт, и эта мелочь (для меня-то мелочь) добавила новые черты к Вашему облику. Но вот то, что Вы еще не упаковали вещи, хотя, несмотря на это, намереваетесь читать в постели, изрядно меня обеспокоило. Накануне ночью Вы ведь тоже читали до четырех. В качестве дорожного чтения у Вас имелись с собой Бьернсон, «Флаги над городом и гаванью» и Андерсен, «Книга картин без картин». Мне показалось, что я и без Ваших слов угадал бы эти книги, хотя ни о чем таком мне, конечно же, в жизни не догадаться. Я в очередном приступе неловкости втиснулся в одну с Вами секцию вертящихся дверей и чуть не отдавил Вам ноги. – Потом перед замершим в ожидании швейцаром мы все трое еще постояли возле лифта, за дверцами которого, пока что раскрытыми, Вы вот-вот должны были исчезнуть. Вы даже успели перемолвиться со швейцаром, и гордый тон Вашего голоса, стоит мне затаить дыхание, все еще звучит у меня в ушах. Вы не так-то легко дали убедить себя, что до вокзала близко и что авто Вам не понадобится. Правда, Вы-то думали, что уезжаете с вокзала Франца-Иосифа. – Потом и вправду настало время прощаться, я опять – как мне вообще тогда казалось – самым неловким из всех возможных способов упомянул о путешествии в Палестину, хотя и без того на протяжении вечера слишком часто говорил об этой затее, которую, похоже, никто, кроме меня, всерьез не принимал.
Вот, пожалуй, и все – бегло, но лишь с несущественными, хотя и многочисленными опущениями описанные – внешние события того вечера, которые я в силах припомнить сегодня, после тридцати, если не больше, других вечеров, проведенных за истекшее время в доме Бродов и, к сожалению, кое-что в моей памяти, вероятно, стерших. Я записал эти свои наблюдения в ответ на Вашу фразу, что на Вас, мол, в тот вечер не особенно обращали внимание, а еще потому, что и так слишком долго противился желанию записать свои воспоминания о том вечере, пока они еще живы. В итоге же Вы сейчас, наверно, с ужасом взираете на лежащую перед Вами кипу исписанной бумаги и проклинаете сперва свою опрометчивую фразу, вызвавшую к жизни эту лавину слов, потом себя – за то, что все же будете это читать, пока, просто из легкого любопытства, не прочтете все до конца, а ваш чай тем временем совсем остынет, и настроение в итоге до того испортится, что Вы поклянетесь всем на свете ни под каким видом не пытаться дополнить мои воспоминания своими, со зла совершенно не подумав о том, что дополнять все-таки гораздо легче, чем вспоминать и записывать первому, и что дополнениями доставите мне куда большую радость, чем сам я сумел доставить себе собиранием этого первого материала ради Вас. – Но теперь Вам и вправду пора от меня отдохнуть, получив напоследок только самый сердечный привет.
Ваш Франц К.
P. S. Нет, это все еще не конец, совсем напоследок я к тому же обременю Вас еще и очень непростым вопросом: сколько может, не портясь, храниться шоколад?
29.10.1912
Милостивая сударыня!
Нечто весьма важное, хотя и в крайней спешке. (Пишу эти строки не у себя в конторе, где все канцелярское бытие бунтует против переписки с Вами, настолько претит мне эта моя служба, настолько чужда она всем моим запросам и чаяниям.) Вы не должны думать, что нескончаемыми посланиями вроде вчерашнего, из-за которого я и так уже себя ругаю, я помимо досуга на чтение вознамерился лишить Вас еще и времени на отдых и сон и жду пространных и точных ответов на свои письма: было бы постыдно и непростительно вдобавок к тяготам Ваших напряженных рабочих дней стать сущим наказанием Ваших вечеров. Так вот, не в этом, совсем не в этом цель моих писем, хотя, разумеется, и такая цель была бы вполне естественна, и ничего странного не было бы в том, если бы Вы именно так, а и не иначе ее расценили. Вам совсем не следует – вот это и есть важное, вот это важное и есть (настолько важное, что я в спешке поневоле перехожу на литанию), – не следует задерживаться вечерами и писать мне даже тогда, когда Вам, быть может, хочется писать просто так, что угодно, пусть даже вне всякой связи с моими посланиями. Сколь бы распрекрасными ни представлял я себе условия у Вас на работе, – Вы, кстати, одна в комнате? – я не хочу мучиться подозрениями, что удерживаю Вас на службе до позднего вечера. Строчек пять, не больше, иногда после работы, да, можете мне черкнуть, хотя, говоря это, я никакими силами не могу подавить в себе хамское допущение, что пять строчек можно ведь писать и чаще, чем длинные письма. Но один только вид Вашего письма в створках двери – они теперь приходят к полудню – способен заставить меня позабыть о всякой заботливости, хотя один только взгляд на указанное в письме время или просто мысль, что этим вот ответом на очередное свое послание я, возможно, лишил Вас прогулки, опять-таки тоже невыносимы. Какое, собственно, я имею право надоедать Вам советами не злоупотреблять пирамидоном, если сам отчасти повинен в Ваших головных болях? Когда, кстати, Вы вообще гуляете? Дважды в неделю гимнастика, три раза в неделю преподаватель – очевидно, о нем Вы мне писали как раз в том потерявшемся письме, – да остается ли у Вас вообще свободное время? А по воскресеньям еще и рукоделье, это-то еще зачем? Неужели Вашу маму способно радовать Ваше рукоделье, если она знает, что Вы тратите на это занятие драгоценное время отдыха? Тем паче если Ваша мама, судя по Вашим же письмам, Ваша лучшая и веселая подружка? – Ах, если бы Вы могли относительно всего этого в пяти строчках меня успокоить, чтобы нам обоим больше об этом не писать и не думать, а только спокойно, без напрасных угрызений совести, видеть и слушать друг друга, Вы – со всею Вашей проницательной добротой и чуткостью, а я – уж как умею.
Ваш Франц К.
31.10.1912
Милостивая сударыня!
Сами видите, до чего невозможные вещи творятся в нашей переписке! Ну можно ли с моих просьб вроде последней – чтобы Вы писали мне только пять строчек, не больше, – стереть отвратительный налет притворного благородства? Совершенно невозможно. А притом, высказывая ее, разве я кривлю душой? Да, конечно же, совершенно не кривлю. Но в то же время, быть может, все-таки кривлю? Да, разумеется, кривлю, и еще как кривлю! Когда, после того как дверь моего кабинета уже тысячу раз распахнулась, чтобы вместо швейцара с письмом впустить ко мне в комнату множество разных людей, которые с совершенно невозмутимыми – и оттого, с учетом обстоятельств моего ожидания, совершенно непереносимыми – физиономиями располагаются у меня в комнате как у себя дома, как будто только им тут и место, когда на самом деле тут место только швейцару с письмом, и никому больше! – Так вот, когда письмо приходит, я в первые мгновения думаю, что наконец-то смогу успокоиться, что сейчас насыщусь этим письмом и день пройдет благополучно. Но вот письмо прочитано, я узнаю из него гораздо больше, чем я когда-либо вправе ожидать и жаждать узнать, Вы потратили на это письмо целый вечер, у Вас, должно быть, совсем не остается времени для Вашей привычной прогулки по Лейпцигской улице, я перечитываю письмо с начала до конца, откладываю в сторонку, потом перечитываю снова, беру в руки служебную бумагу, читаю ее, но перед глазами по-прежнему только Ваше письмо, стою над машинистом, чтобы продиктовать ему исходящее, а рука ощущает Ваше письмо, и перед внутренним взором медленно ползут Ваши строчки, которые я, кажется, едва-едва успел пробежать, ко мне обращаются с вопросами, и я точно знаю, что вот сейчас, сию минуту, мне о Вашем письме ну никак думать нельзя, но оно единственное, что занимает мои мысли, – и вот уже я голоден, как прежде, и беспокоен, как прежде, а дверь уже снова ходит ходуном, будто швейцар с письмом еще только должен явиться. Вот так примерно выглядит та, по Вашему слову, «маленькая радость», которую доставляют мне Ваши письма. Тем самым, полагаю, не оставлен без ответа и Ваш вопрос, не надоело ли мне каждый день на работе получать Ваши письма. Разумеется, каким-то образом совместить получение письма от Вас с моей конторской работой дело почти невозможное, но столь же невозможно работать, ожидая письма понапрасну, или работать, беспрерывно думая о том, что, быть может, письмо ждет меня дома. Со всех сторон сплошь одни невозможности! Но это еще не такая уж беда, мне в последнее время на работе кое-какие невозможности удалось осилить, перед маленькими невозможностями вообще не следует падать ниц, потому что тогда не увидишь большие.
А сегодня мне вообще грех жаловаться, Ваши последние два письма пришли ко мне с интервалом всего в каких-нибудь два часа, в связи с чем я столь же яростно проклинаю безалаберность почтовиков за вчерашний день, как славлю их усердие в сегодняшний.
Однако я ничего не отвечаю Вам и сам ни о чем не спрашиваю, все только потому, что радость писать Вам неосознанно настраивает все мои послания на бесконечность, а в бесконечных посланиях, разумеется, и не положено сообщать на первой же странице что-то существенное. Но подождите, вот завтра у меня, надеюсь (надеюсь для себя, но не для своей службы), будет на работе достаточно времени, чтобы одним махом ответить на все Ваши вопросы и столько задать Вам, что совесть моя хотя бы ненадолго будет чиста.
А сегодня сообщу только, что, читая то место Вашего письма, где речь о шляпке, я просто прикусил язык. Так это испод у шляпы был черный? Да где же были мои глаза? Нет-нет, это наблюдение для меня вовсе не мелочь. Тогда, значит, она поверху вся была белой, и меня это сбило, я ведь смотрел на Вас с каланчи своего роста. К тому же Вы слегка голову наклонили, когда шляпу надевали. Короче, оправдания, конечно, сыщутся всегда, но коли не помнишь в точности, значит, нечего и писать.
Примите самый сердечный привет и, если дозволите, поцелуй руки.
Ваш Франц К.
Ноябрь
1.11.1912
Дорогая мадемуазель Фелиция!
Надеюсь, Вы не обидитесь хотя бы в этот раз на подобное обращение, ибо, если уж мне, как Вы не однажды того требовали, предстоит описать Вам свой образ жизни, то, значит, придется сообщить о себе и некоторые неприятные, нелестные для меня вещи, поведать о которых «милостивой сударыне» я, право, вряд ли бы отважился. Впрочем, ничего худого в этом новом обращении, по-моему, нет, в противном случае я не обдумывал бы его с таким огромным, все еще не утихающим удовольствием.
В сущности, вся моя жизнь издавна состояла и состоит из попыток писательства, в большинстве своем неудачных. Но не будь этих попыток, я бы давно опустился и стал мусором, достойным лишь веника и совка. Беда в том, что силы мои для этих поползновений с самого начала были слишком малы, и так уж само собой вышло, хоть я долго этого не осознавал, что ради дела, представлявшегося мне главной жизненной целью, мне пришлось отказывать себе и беречь себя чуть ли не во всем остальном. Там же, где я по собственной воле себя не берег и себе не отказывал (бог мой, в этой конторе, где я сегодня дежурю при журнале приема, даже в выходной день ни секунды покоя, посетитель за посетителем, просто ад какой-то!), а, наоборот, пытался себя превозмочь, меня отбрасывало назад, с позором, синяками и шишками, с непоправимым уроном сил, но именно эти, как мне тогда казалось, несчастья мало-помалу помогли мне обрести доверие к судьбе, и я начал надеяться, что где-то, пусть и трудно различимая, все-таки и для меня светит добрая звезда, под которой можно будет жить дальше. Как-то раз я даже составил опись всего того, чем пожертвовал во имя писательства и чего ради него лишился, или, точнее, список потерь, перенести которые можно только ценой такого и
Читать книгу Письма к Фелиции »Кафка Франц »Библиотека книг
Письма к ФелицииФранц Кафка
Франц Кафка – один из столпов мировой словесности, автор одного из главных романов ХХ столетия «Замок», а также романов «Процесс», «Америка», множества рассказов. И в наше время Кафка остается одним из самых читаемых авторов.
Сновидчески-зыбкий художественный мир Кафки захватывает читателя в узнаваемо-неузнаваемое пространство, пробуждает и предельно усиливает ощущения.
В настоящее издание вошел один из самых загадочных шедевров Кафки – рассказ «Приговор», который публикуется в новом переводе М.Рудницкого.
В подоплеку этого рассказа помогают проникнуть автобиографические свидетельства из эпистолярного наследия Кафки, в частности «Письма к Фелиции» – его письма к невесте, по динамике развития интриги не уступающие увлекательному любовному роману
Франц Кафка
Письма к Фелиции
1912
Сентябрь
20.09.1912
Многоуважаемая сударыня!
На тот – легко допустимый – случай, если Вы обо мне совсем ничего не вспомните, представлюсь еще раз: меня зовут Франц Кафка, я тот самый человек, который впервые имел возможность поздороваться с Вами в Праге в доме господина директора Брода и который затем весь вечер протягивал Вам через стол одну за одной фотографии талийского путешествия, а в конце концов вот этой же рукой, которая сейчас выстукивает по клавишам, сжимал Вашу ладонь, коим рукопожатием было скреплено Ваше намерение и даже обещание на следующий год совершить вместе с ним путешествие в Палестину.
Если охота предпринять поездку у Вас еще не пропала – Вы ведь сами сказали, что непостоянством не отличаетесь, да и я ничего похожего в Вас не заприметил, – тогда нам не только стоило бы, но даже просто необходимо попытаться об этом путешествии как следует договориться. Ибо краткий, для путешествия по Палестине слишком краткий срок нашего отпуска нам придется исчерпать до самого донышка, а достичь этого можно, только наилучшим образом подготовившись и загодя придя относительно всех приготовлений к полному взаимному согласию.
В одном только я вынужден признаться, как ни скверно это звучит и как ни плохо вяжется со всем предыдущим: я очень неаккуратен в переписке. Впрочем, дело обстояло бы еще хуже, не будь у меня пишущей машинки, ибо даже когда у меня совсем нет настроения для письма, кончики пальцев всегда тут как тут. Впрочем, в награду за это я никогда не жду и ответной пунктуальности от адресата; даже ожидая ответного письма изо дня в день с возрастающим нетерпением, я совсем не огорчаюсь, когда письма нет, когда же оно наконец приходит, я, бывает, даже пугаюсь. Сейчас, закладывая в машинку новый лист, я замечаю, что, пожалуй, перегнул палку в живописании собственного тяжелого характера. Что ж, если я и впрямь допустил такую промашку, поделом мне, не надо было приниматься за это послание на шестом часу рабочего дня, да еще писать его на машинке, с которой я еще не очень-то в ладах.
И тем не менее, тем не менее – кстати, единственный недостаток писания на машинке как раз в том, что случается иногда вот этак зарапортоваться, – даже если у Вас возникают сомнения относительно того, чтобы взять меня с собой в путешествие в каком хотите качестве – дорожного спутника, путеводителя, балласта, тирана, – равно как и сомнения относительно меня как корреспондента (пока что ведь у нас речь лишь об этом), – не стоит торопиться с отрицательными решениями, может, лучше все же попробовать меня в одном из этих качеств?
_Искренне_Ваш_
_д-р_Франц_Кафка._
28.09.1912
Уважаемая сударыня!
Извините, что пишу Вам не на машинке, но мне так несусветно много надобно Вам поведать, машинка же стоит в коридоре, к тому же письмо представляется мне настолько безотлагательным, а у нас в Чехии сегодня праздник (что, впрочем, с вышестоящим извинением связано не настолько уж строго), к тому же машинка пишет, на мой вкус, недостаточно быстро, погода сегодня дивная, окно у меня распахнуто (но я всегда живу с открытыми окнами), в контору я, чего давно уже не случалось, пришел напевая, и не жди меня здесь Ваше письмо, я и вообразить бы не мог, с какой стати мне в праздничный день являться на службу.
Как я раздобыл ваш адрес? Вы же не об этом спрашиваете, когда спрашиваете об этом. Что ж, Ваш адрес я попросту выклянчил. Сперва мне назвали только какое-то акционерное общество, но оно мне не понравилось. Потом я узнал Ваш домашний адрес, правда, без номера квартиры, а уж после и сам номер. Заполучив адрес, я успокоился и тем более не писал: обладания адресом мне казалось достаточно, а кроме того, я боялся, что адрес неправильный, ибо, в самом деле, кто такой этот Иммануил Кирх? А нет ничего печальнее, чем письмо, посланное по неточному адресу, это уже и не письмо вовсе, а скорее вздох. И только разузнав, что на вашей улице стоит кирха св. Иммануила, и расшифровав таким образом сокращение Иммануил-Кирхштрассе, я снова на некоторое время успокоился. Правда, теперь мне к Вашему адресу недоставало указания на сторону света, в Берлине это ведь почти неотъемлемая примета всякого адреса. Будь на то моя воля, я поселил бы Вас где-нибудь в северной части города, пусть даже это и бедные места, как мне почему-то кажется.
Но и помимо хлопот с адресом (тут в Праге никто толком не знает, какой у вас номер дома – 20 или 30) – чего только не пришлось вытерпеть этому моему разнесчастному письму, прежде чем оно было написано. Теперь, когда дверь между нами начинает приоткрываться или, по крайней мере, когда мы с двух сторон взялись за ручки, я могу, а пожалуй что и обязан в этом признаться. Какие только капризы не помыкают мной, сударыня! Нервические странности падают на меня беспрерывным дождем. То я хочу одного, то, через секунду, совсем другого. Уже поднявшись по лестнице, я все еще не знаю, в каком состоянии войду к себе в квартиру. Приходится нагромождать в себе разные нерешительности, пока они не перерастут в некую маленькую решимость или вот в письмо. Как же часто – без преувеличения, вечеров десять – я перед сном сочинял то свое первое письмо к Вам. Но это одна из моих бед: ничего из того, что я тщательно продумал заранее, я потом не в состоянии записать разом, в один прием. У меня очень слабая память, но даже самая прекрасная память не помогла бы мне в точности воспроизвести пусть даже самый маленький, загодя придуманный или просто намеченный пассаж, ибо внутри каждого предложения есть связи и переходы, остающиеся как бы подвешенными. Стоит мне начать записывать фразу – передо мной одни обломки, они громоздятся и застят целое, я не вижу просвета ни между них, ни за ними, так что будь на то воля моей капризной натуры, впору хоть бросать перо. Тем не менее я продолжал раздумывать над тем письмом, я ведь еще не решился его написать, а подобные раздумья – самое верное средство удержать меня от решения. Однажды, помню, я среди ночи даже с кровати вскочил, намереваясь немедленно записать некий только что придуманный для Вас оборот. Но тут же улегся обратно, потому что – и это вторая моя беда – подобная спешка показалась мне ужасной глупостью, я корил и уверял себя, что столь ясные мысли легко сумею записать и завтра утром. Ближе к полуночи подобные самообольщения всегда наготове.
Впрочем, на этом пути я никогда не доберусь до конца. Болтаю о своем предыдущем письме, вместо того чтобы писать Вам все то многое, что хочу написать. Заметьте себе, почему это письмо обрело для меня такую важность. Оно обрело важность, потому что Вы мне на него ответили, и это Ваше ответное послание лежит сейчас рядом и дарит мне счастливые минуты дурацкой радости, когда я кладу на него руку, дабы удостовериться, что я и вправду им обладаю. Так что поскорее напишите мне еще одно. Особенно стараться не надо – по письму сразу видно, сколько в него вложено труда; вы просто ведите для меня маленький дневник, это дается не так трудно, зато адресату дает очень много. Разумеется, для меня Вы будете записывать несколько больше, чем Вы писали бы только для себя, ведь я Вас совсем не знаю. Так что для начала Вам придется мне сообщить, когда Вы приходите на службу, что ели на завтрак, куда смотрят окна Вашей конторы и какая у Вас там работа, как зовут Ваших друзей и подруг, кто это делает Вам подарки, норовя подорвать Ваше здоровье шоколадными конфетами, а также тысячу других вещей, о существовании и самой возможности существования которых я и ведать не ведаю. – Кстати, что насчет путешествия в Палестину? Если не в ближайшем, то в скором будущем, следующей весной или осенью непременно. Макс забросил пока что свою оперетту, сейчас он в Италии, но вскоре намерен ошеломить Вашу Германию невероятным литературным ежегодником. Моя книга – книжица, тетрадочка – встретила у него очень радушный прием. Но не больно-то она хороша, надобно писать гораздо лучше. На этом завете и прощаюсь!
_Ваш_Франц_Кафка._
Октябрь
13.10.1912
Милостивая сударыня!
Две недели назад в десять часов утра я получил от Вас первое письмо и спустя какие-то минуты уже сидел за ответным посланием, написав Вам четыре страницы неимоверного формата. О чем и сейчас нисколько не сожалею, ибо провести то время с большей радостью было нельзя, сожалеть же приходится только о том, что написанное тогда так и осталось крохотным началом, написать хотелось гораздо больше, так что подавленная в себе часть письма еще долго, целыми днями распирала меня и не давала покоя, покуда беспокойство это не сменилось ожиданием Вашего ответа и все более слабеющей надеждой этот ответ получить.
Так почему же Вы мне не написали? – Возможно, а с учетом поспешности того моего письма даже вполне вероятно, что Вы наткнулись там на какую-нибудь глупость, которая могла Вас смутить, но искренность и доброта намерений, сквозивших в каждом моем слове, ведь не могли же от Вас ускользнуть. – Или, может, какое-то из писем затерялось? Но мое было отправлено с таким тщанием, а Вашего ждут с таким рвением, что затерять их просто не могли… Да и теряются ли вообще письма – даже те, которых ждут уже почти без надежды, из одного только необъяснимого упрямства? – Или, может, Вам не передали мое письмо из-за упоминания о палестинской затее, которую не одобряют Ваши домашние? Но возможно ли такое в семье, а тем паче по отношению к Вам? А ведь письмо мое, по моим расчетам, должно было дойти до Вас еще в воскресенье утром. – В таком случае остается только одно печальное предположение – что Вы прихворнули. Но и в это я верить не хочу, Вы наверняка здоровы и радуетесь жизни. – Все остальное мой разум просто отказывается понимать, и я пишу это письмо не столько в надежде на ответ, сколько во исполнение долга перед самим собой.
Будь я почтальоном, что разносит письма по Вашей Иммануил-Кирхштрассе, я бы с этим письмом в руках, минуя одного за другим всех изумленных членов Вашего семейства, через все комнаты прошел бы прямо в Вашу и вложил бы конверт Вам прямо в руку; а еще лучше – сам оказался бы под дверями Вашего дома и долго, бесконечно долго жал на кнопку звонка, с восторгом и упоением предвкушая долгожданную, все сомнения и напряжения разряжающую встречу, исполненную для меня упоения и восторга.
_Ваш_Франц_К._
23.10.1912
Милостивая сударыня!
Даже если бы все три заместителя директора стояли сейчас над моим столом, заглядывая мне через плечо, я все равно ответил бы Вам немедленно, ибо Ваше письмо упало на меня как дар небес, на которые я уже три недели в тщетном уповании взираю. (Кстати, предположение насчет начальственного присмотра незамедлительно подтвердилось, правда, только в лице моего непосредственного начальника.) Доведись мне отвечать на присланное Вами описание Вашего нынешнего житья-бытья той же монетой, мне пришлось бы сказать, что жизнь моя по меньшей мере наполовину состояла из ожидания Вашего письма, к коей половине я бы причислил еще три маленьких послания, которые я написал Вам за эти три недели (меня между тем расспрашивают о страховании заключенных, Бог ты мой!) и из которых два теперь с грехом пополам еще можно Вам отослать, тогда как третье, хотя в действительности-то оно первое, отправлено быть никак не может. Так, значит, письмо Ваше затерялось (только что мне пришлось заявить, что о министерской жалобе некоего Йозефа Вагнера из Катаринаберга я ровным счетом ничего не знаю), и ответов на свои давешние вопросы мне уже не видать, при том что вины моей в этой утрате нет никакой.
А я по поводу этой утраты все никак не успокоюсь, не могу сосредоточиться, готов весь мир засыпать жалобами, хотя сегодня жизнь уже совсем не та, что вчера, но накопившаяся тоска по-прежнему не отпускает, норовит выплеснуться из прошлого и омрачить настоящее.
Выходит, то, что я Вам сегодня пишу, это не ответ на Ваше письмо, ответом, быть может, станет письмо завтрашнее, а то и вовсе послезавтрашнее. И манера писать у меня не сама по себе такая дурацкая, она дурацкая ровно настолько, насколько отражает мой нынешний образ жизни, который я Вам тоже когда-нибудь смогу живописать.
А Вас между тем по-прежнему задаривают! И все эти книги, конфеты и цветы громоздятся прямо на письменном столе у Вас на работе? У меня на столе только обычный канцелярский разгром, а Ваш цветок, за который целую Вам руку, я поскорее спрятал в бумажник, где, невзирая на теперь уже невосполнимую утрату одного письма, хранятся два других Ваших послания, одно, правда, адресовано Максу, но я его у него выклянчил, пусть это и смешно немного, но Вы, надеюсь, за это на меня не в обиде.
Наверно, даже хорошо, что в переписке нашей с самого начала вышла такая заминка, я теперь знаю, что смогу писать Вам, даже когда ответы Ваши не доходят. Но больше письма теряться не должны. – Всего вам хорошего, и не забудьте про маленький дневник.
_Ваш_Франц_К._
24.10.1912
Милостивая сударыня!
Ах, какая сегодня была трудовая бессонная ночь, – только под конец ее, свернувшись калачиком, я чуть ли не силой принудил себя к двум часам натужной, почти искусственной дремы, когда и сон не в сон, и сны не сны. А с утра в подъезде на меня еще налетел ученик мясника с лотком, деревянный угол которого я и сейчас еще вполне болезненно ощущаю у себя под левым глазом.
Разумеется, такое начало дня не лучшим образом помогает преодолевать трудности, с коими связано для меня писание писем Вам, трудности, которые и этой ночью в самых разных формах проходили перед моим мысленным взором. Трудности эти вовсе не от моего неумения высказать то, о чем я хочу написать, ибо хочу я написать о самых простых вещах, но вещей этих столько, что я не в силах разместить их во времени и пространстве. Иногда, осознавая это свое бессилие, – правда, такое бывает только ночью, – я готов все бросить и никогда больше не писать, ибо лучше уж умереть от ненаписанного, чем от писанины.
Франц Кафка – биография, фото, личная жизнь, книги
Биография
Биография Франца Кафки не насыщена событиями, которые привлекают внимание литераторов нынешнего поколения. Великий писатель прожил довольно однообразную и недолгую жизнь. При этом Франц был фигурой странной и загадочной, а многие тайны, присущие этому мастеру пера, будоражат умы читателей и по сей день. Хотя книги Кафки – великое литературное наследие, при жизни писатель не получил признания и славы и не узнал, что такое настоящий триумф.
Портрет Франца КафкиНезадолго до своей смерти Франц завещал лучшему другу – журналисту Максу Броду – сжечь рукописи, но Брод, зная, что в дальнейшем каждое слово Кафки будет цениться на вес золота, ослушался последней воли приятеля. Благодаря Максу творения Франца увидели свет и оказали колоссальное влияние на литературу XX века. Произведения Кафки, такие как «Лабиринт», «Америка», «Ангелы не летают», «Замок» и т.д., обязательны для прочтения в высших учебных заведениях.
Детство и юность
Будущий писатель родился первенцем 3 июля 1883 года в крупном экономическом и культурном центре многонациональной Австро-Венгерской империи – городе Праге (ныне Чехия). В то время империю населяли евреи, чехи и немцы, которые, живя бок о бок, не могли мирно сосуществовать друг с другом, поэтому в городах царило подавленное настроение и иногда прослеживались антисемитские явления. Кафку не волновали политические вопросы и межнациональные распри, но будущий писатель чувствовал себя выброшенным на обочину жизни: социальные явления и зарождающаяся ксенофобия оставили отпечаток на его характере и сознании.
Родители Франца КафкиТакже на личность Франца повлияло воспитание родителей: будучи ребенком, он не получал любви отца и чувствовал себя обузой в доме. Франц рос и воспитывался в небольшом квартале Йозефов в немецкоязычной семье еврейского происхождения. Отец писателя – Герман Кафка – был коммерсантом средней руки, в розницу торговал одеждой и прочими галантерейными товарами. Мать писателя Юлия Кафка происходила из знатного рода процветающего пивовара Якоба Леви и была высокообразованной барышней.
Сестры Франца КафкиТакже у Франца имелись три сестры (два младших брата умерли в раннем детстве, не достигнув двухлетнего возраста). Пока глава семейства пропадал в суконной лавке, а Юлия следила за девочками, юный Кафка был предоставлен самому себе. Тогда, чтобы разбавить серое полотно жизни яркими красками, Франц начал придумывать небольшие рассказы, которые, впрочем, никого не интересовали. Глава семейства повлиял на формирование литературных строк и на характер будущего писателя. По сравнению с двухметровым мужчиной, который к тому же имел басистый голос, Франц ощущал себя плебеем. Это чувство физической неполноценности преследовало Кафку на протяжении всей жизни.
Франц Кафка в детствеКафка-старший видел в отпрыске наследника бизнеса, но замкнутый, стеснительный мальчик не соответствовал требованиям отца. Герман использовал суровые методы воспитания. В написанном родителю письме, которое не дошло до адресата, Франц вспоминал, как ночью был выставлен на холодный и темный балкон из-за того, что просил воды. Эта детская обида вызвала в писателе чувство несправедливости:
«Спустя годы я все еще страдал от мучительного представления, как огромный мужчина, мой отец, высшая инстанция, почти без всякой причины – ночью может подойти ко мне, вытащить из постели и вынести на балкон, – вот, значит, каким ничтожеством я был для него», – делился воспоминаниями Кафка.
С 1889 по 1893 годы будущий писатель учился в начальной школе, затем поступил в гимназию. Будучи студентом, молодой человек участвовал в университетской самодеятельности и организовывал театральные спектакли. После получения аттестата зрелости Франца приняли в Карлов университет на юридический факультет. В 1906 году Кафка получил докторскую степень по праву. Руководителем научной работы литератора выступал сам Альфред Вебер – немецкий социолог и экономист.
Литература
Франц Кафка считал литературную деятельность главной целью в жизни, хотя и считался высокопоставленным чиновником в страховом ведомстве. По причине болезни Кафка вышел на пенсию раньше положенного времени. Автор «Процесса» был трудолюбивым работником и высоко ценился у начальства, однако Франц ненавидел эту должность и нелестно отзывался о руководителях и подчиненных. Писал Кафка для себя и считал, что литература оправдывает его существование и помогает ускользнуть от суровых реалий бытия. Франц не спешил опубликовывать произведения, потому что чувствовал себя бездарностью.
Рисунок Франца КафкиВсе его рукописи бережно собирал Макс Брод, с которым писатель познакомился на собрании студенческого клуба, посвященного Ницше. Брод настаивал, чтобы Кафка напечатал свои рассказы, и в итоге творец сдался: в 1913 году выходит сборник «Созерцание». Критики отзывались о Кафке как о новаторе, но самокритичный мастер пера был недоволен собственным творчеством, которое считал необходимым элементом бытия. Также при жизни Франца читатели познакомились только с незначительной частью его трудов: многие значимые романы и рассказы Кафки увидели свет только после его смерти.
Франц Кафка в молодостиОсенью 1910 года Кафка вместе с Бродом отправился в Париж. Но уже через 9 дней из-за острых болей в животе писатель покинул страну сезанна и пармезана. В то время Франц и начинает свой первый роман «Пропавший без вести», который позже был переименован в «Америку». Большинство своих творений Кафка писал на немецком языке. Если обратиться к оригиналам, то практически везде присутствует чиновничий язык без претенциозных оборотов и прочих литературных изысков. Но эта серость и тривиальность сочетается с абсурдом и загадочной необычностью. Большая часть работ мастера пропитана от корки до корки страхом перед внешним миром и высшим судом.
Книги Франца КафкиЭто чувство тревоги и отчаяния передается и читателю. Но также Франц был тонким психологом, точнее, этот талантливый человек скрупулезно описывал реальность этого мира без сентиментальных прикрас, но с безупречными метафорическими оборотами. Стоит вспомнить повесть «Превращение», по которой в 2002 году снят российский фильм с Евгением Мироновым в главной роли.
Евгений Миронов в фильме по книге Франца Кафки «Превращение»Сюжет повести вращается вокруг Грегора Замза, типичного молодого человека, который работает коммивояжером и финансово помогает своей сестре и родителям. Но случилось непоправимое: одним прекрасным утром Грегор превратился в огромное насекомое. Таким образом, протагонист стал изгоем, от которого отвернулись родные и близкие: они не обращали внимания на прекрасный внутренний мир героя, их волновала ужасная внешность страшного существа и непосильные муки, на которые он их несознательно обрек (например, не мог зарабатывать деньги, самостоятельно убираться в комнате и пугал гостей).
Иллюстрация к роману Франца Кафки «Замок»Но во время подготовки к публикации (которая так и не осуществилась из-за разногласий с редактором) Кафка поставил ультиматум. Писатель настоял, чтобы на обложке книги не было иллюстраций с насекомым. Отсюда существует множество трактовок этого рассказа — от физического недуга до душевных расстройств. Причем события до метаморфозы Кафка, следуя собственной манере, не раскрывает, а ставит читателя перед фактом.
Иллюстрация к роману Франца Кафки «Процесс»Роман «Процесс» – еще одно значимое произведение литератора, опубликованное посмертно. Примечательно, что это творение создавалось в момент, когда писатель расторг помолвку с Фелицией Бауэр и ощущал себя в качестве обвиняемого, который всем должен. А последний разговор с возлюбленной и ее сестрой Франц сравнивал с трибуналом. Это произведение с нелинейным повествованием можно считать неоконченным.
Памятник Францу КафкеВ действительности первоначально Кафка трудился над рукописью непрерывно и заносил короткие фрагменты «Процесса» в тетрадь, куда записывал и другие повести. Из этой тетради Франц нередко вырывал листы, поэтому восстановить фабулу романа было практически невозможно. К тому же в 1914 году Кафка признался, что его посетил творческий кризис, поэтому работа над книгой приостановилась. Главный герой «Процесса» – Йозеф К. (прим
писем к Феличе Франца Кафки
Эти письма дают вам немного больше информации о человеке, стоящем за безумным гением. Может быть, даже в большей степени, чем его личные журналы, которые имеют тенденцию колебаться между обыденными рассказами его дня и откровенными сумасшедшими идиотскими шутками.Кафка вместе с Рильке (я люблю меня, хорошего немца начала века) был первым «серьезным» писателем, в которого я влюбился (хотя, к сведению, вы никогда не увидите, чтобы я очернял хорошего юноши, фэнтези, или научная фантастика). Я наткнулся на A Hunger Artist , когда мне было около 10 или 11, и я был очарован
Эти письма дают вам немного больше информации о человеке, стоящем за безумным гением.Может быть, даже в большей степени, чем его личные журналы, которые имеют тенденцию колебаться между обыденными рассказами его дня и откровенными сумасшедшими идиотскими шутками.Кафка вместе с Рильке (я люблю меня, хорошего немца начала века) был первым «серьезным» писателем, в которого я влюбился (хотя, к сведению, вы никогда не увидите, чтобы я очернял хорошего юноши, фэнтези, или научная фантастика). Я наткнулся на A Hunger Artist , когда мне было около 10 или 11 лет, и был очарован. Он понимает Я думал … он облекает словами то, что я чувствую, но не может объяснить! Наряду с В исправительной колонии Я до сих пор считаю Hunger Artist величайшим рассказом из когда-либо написанных.
Я все еще чувствую сильную связь с Кафкой. Я даже принес на его могилу в Праге цветы, когда был в городе.
В любом случае, эти письма хороши, если вы большой поклонник Кафки — для меня я любил находить то, что мы разделяем, например, наше вегетарианство или то, как мы держим окно приоткрытым даже в разгар зимы. Я чувствую, что читать любые эпистолярные книги будет немного скучно, если вы не вкладываетесь в писателя.
Кафка — очень скромный человек, очень самоуничижительный, но не особенно раздражающий.Приятно видеть, как человек, ставший вечным классиком, извиняющимся тоном говорит такие вещи, как «[Мой последний проект] довольно неразборчиво, и даже если бы это не было препятствием — до сих пор, в конце концов, я определенно не баловал вас с красивым письмом … »
Он также невероятно добрый человек, который возвышает других людей над собой. Несмотря на пренебрежительное отношение к своим добродетелям, он быстро приписывает их другим, в том числе своей невесте Феличе.
К тому же он несколько менее депрессивен, чем можно было бы предположить по некоторым его произведениям.На первый взгляд, вы могли бы легко интерпретировать его сочинение как письмо крайне депрессивного, возможно, даже склонного к суициду человека, но реальность, как показывают эти письма, такова, что он писал такие мрачные истории с неким возбужденным рвением (он с энтузиазмом упоминает к его Metamorphosis как «исключительно отталкивающая история»). Он больше Аддамс Фэмили, чем Сильвия Плат.
Однако он очень одержим личной / духовной чистотой. Нельзя не предположить, что он был главным кандидатом от чего-то вроде расстройства пищевого поведения.
«Чем больше я пишу и чем больше я освобождаюсь, тем чище и достойнее
из вас я могу стать, но, без сомнения, есть гораздо больше, от чего нужно избавиться».
Я действительно думаю, что парадоксально, Кафка мог бы стать отличным партнером. Он высоко ценит ум, остроумие и образование Феличе и, прежде всего, считает ее равной во всех отношениях (и имейте в виду, что эти письма были написаны в начале 1910-х годов, где это определенно не было дефолтом).Он постоянно заботится о ее благополучии и всегда ставит ее счастье выше своего.
Мне также нравились его отношения с его младшей и любимой сестрой (у него было три), Оттилией (которая, к сожалению, позже была убита во время Холокоста). Он был бы самым милым братом.
~~~~ Книга Riot’s Read Harder Challenge 2019 ~~~~
# 1: Эпистолярный роман или сборник писем
Замечательное письмо Кафки своему жестокому и нарциссическому отцу — Brain Pickings
Франц Кафка (3 июля 1883 г. — 3 июня 1924 г.) был одним из самых плодовитых и выразительных практиков того, что Вирджиния Вульф называла «гуманным искусством».Среди сотен посланий, которые он написал за свою короткую жизнь, были его прекрасные и душераздирающие любовные письма и его великолепное послание другу детства о том, что книги делают для человеческой души. Хотя он больше всего проникся необычайной глубиной самоанализа и самооткровения, ни одно из них не превосходит 47-страничное письмо, которое он написал своему отцу Герману в ноябре 1919 года — самое близкое к автобиографии, когда-либо созданной Кафкой. Перевод Эрнста Кайзера и Эйтны Уилкинс был посмертно опубликован как Письмо своему отцу ( публичная библиотека ) в 1966 году.
Во многом побужденный расторжением помолвки с Феличе Бауэр, в которой активное неодобрение Германом отношений было токсичной силой и привело к отчуждению отца и сына, 36-летний Кафка решил поддержать своего отца. ответственным за эмоциональное насилие, дезориентирующие двойные стандарты и постоянное неодобрение, которыми было заклеймено его детство — размеренный, но яростный взрыв тоски и разочарования, накопившийся за тридцать лет.
Его список обвинительных заключений вдвойне мучителен в свете того, что психологи обнаружили за прошедшие с тех пор десятилетия, что наш ранний лимбический контакт с нашими родителями глубоко формирует наш характер, закладывая проводку для эмоциональных привычек и моделей взаимодействия, которые сильно влияют на то, что мы приносим. ко всем последующим отношениям в жизни, расширяя или сужая нашу способность к «позитивному резонансу» в зависимости от того, насколько питательными или токсичными были эти формирующие отношения.Для тех из нас, кто пережил подобный опыт, будь то патриарх или матриарх, письмо Кафки своему отцу одновременно мучительно по своему глубокому резонансу и до странности утешительно в его признании общей реальности.
Кафка пишет:
Первая страница письма Кафки отцу.Дорогой отец,
Вы недавно спросили меня, почему я утверждаю, что боюсь вас. Как обычно, я не мог придумать никакого ответа на ваш вопрос отчасти по той причине, что я вас боюсь, а отчасти потому, что объяснение причин этого страха означало бы вдаваться в гораздо больше деталей, чем я мог бы даже приблизительно иметь в виду во время разговора.И если я сейчас попытаюсь дать вам ответ в письменной форме, он все равно будет очень неполным, потому что даже в письменной форме этот страх и его последствия мешают мне по отношению к вам и потому, что масштаб темы выходит далеко за рамки моя память и сила рассуждений.
Кафка рисует фон эмоциональной тирании своего отца и излагает то, что, как он надеется, письмо принесет им обоим:
Вам всегда казалось, что это очень просто, по крайней мере в той мере, в какой вы говорили об этом при мне и без разбора на глазах у многих других людей.Выглядело вам более или менее следующим образом: вы работали всю свою жизнь, жертвовали всем для своих детей, прежде всего, для меня, поэтому я жил с высоким и красивым, были полностью на свободе, чтобы узнать, что я хотел, и у них не было причин для материальных забот, а значит, вообще для беспокойств любого рода. Вы не ожидали за это никакой благодарности, зная, что такое «детская благодарность», но ожидали хоть какой-то услужливости, какого-то признака сочувствия. Вместо этого я всегда прятался от вас, в своей комнате, среди моих книг, с сумасшедшими друзьями или с экстравагантными идеями … Если вы суммируете свое мнение обо мне, вы получите такой результат, хотя вы не обвиняете меня ни в чем Совершенно неприлично или порочно (за исключением, возможно, моего последнего плана брака), вы обвиняете меня в холодности, отчуждении и неблагодарности.И, более того, вы обвиняете меня в этом таким образом, чтобы показалось, что это моя вина, как будто я мог бы, чем-то вроде прикосновения к рулевому колесу, все изменить, пока вы не Ни в коем случае не виноват, если только не был слишком добр ко мне.
Это ваш обычный способ изложения я считаю правильным лишь постольку, поскольку я тоже считаю, что вы совершенно невиновны в вопросе нашего отчуждения. Но я также совершенно безупречен.Если бы я мог заставить вас признать это, то было бы возможным — не, я думаю, новая жизнь, мы оба слишком стары для этого — но все же своего рода мир; без прекращения, но тем не менее, уменьшение ваших непрекращающихся упреков.
Но на этом сходство заканчивается. Кафка видит в своем отце все, чем он сам не является — человеком «здоровья, аппетита, громкости голоса, красноречия, самодовольства, мирского господства, выносливости, присутствия духа, знания человеческой природы, определенного образа действий. грандиозный масштаб, конечно, со всеми недостатками и слабостями, которые сочетаются с этими преимуществами и в которые вас загоняют ваш темперамент, а иногда и вспыльчивый характер.Страдания, возникающие из-за этого несоответствия темпераментов в сочетании с неравенством власти между родителем и ребенком, знакомы всем, кто пережил подобное детство — постоянно навязываемое с разной степенью силы чувство, что родительская версия реальности всегда правильно просто в силу авторитета, а ребенок всегда неправ в силу подчинения, и, таким образом, ребенок начинает усваивать хроническую вину в неправоте.
С таким классическим детским циклом обвинений и извинений, пытающихся осмыслить обидное поведение родителей, Кафка рассматривает недостатки своего отца с равной долей боли и сострадания:
Мы были такими разными и настолько опасными друг для друга, что если бы кто-нибудь попытался заранее просчитать, как я, медленно развивающийся ребенок, и ты, взрослый мужчина, будем стоять друг против друга, он мог бы предполагал, что ты просто топчёшь меня ногами, чтобы от меня ничего не осталось.Что ж, этого не произошло. Ничего живого нельзя подсчитать. Но, возможно, случилось кое-что похуже. И, говоря это, я все время умолял вас не забывать, что я никогда и ни на мгновение не верю, что какая-либо вина находится на вашей стороне. Эффект, который ты произвел на меня, был эффектом, который ты не мог не произвести. Но тебе следует перестать считать, что я поддался этому эффекту какому-то особому умыслу.
Я был робким ребенком. При этом я уверен, что был упрям, как дети.Я уверен, что мама меня тоже баловала, но не могу поверить, что со мной было особенно трудно справиться; Не могу поверить, что доброе слово, тихое взятие за руку, дружелюбный взгляд не могли заставить меня сделать то, что от меня требовалось. В конце концов, вы в сущности добрый и отзывчивый человек (дальнейшее не будет противоречить этому, я говорю только о впечатлении, которое вы произвели на ребенка), но не каждому ребенку хватит выдержки и бесстрашия, чтобы пойти в поисках, пока не дойдет до доброты, которая скрывается под поверхностью.Вы можете обращаться с ребенком только так, как вы сами устроены, с энергичностью, шумностью и вспыльчивостью, и в данном случае это показалось вам в придачу чрезвычайно подходящим, потому что вы хотели воспитать меня сильным человеком. храбрый мальчик.
Кафка рассказывает об одном особенно травмирующем инциденте, когда однажды ночью, будучи маленьким мальчиком, он продолжал плакать по воде — «не, я уверен, потому что я хотел пить, но, вероятно, отчасти для того, чтобы раздражать, отчасти для развлечения», — объясняет он. с этим ученым извинением, ставящим под сомнение реальность, он принес с собой во взрослую жизнь — до тех пор, пока его отец не разозлился настолько, что выдернул маленького Франца из постели, вынес его на балкон и оставил там только в ночной рубашке, закрыв дверь.Он пишет:
Иллюстрация Паскаля Леметра из книги «Книга злых людей» Тони и Слейда Моррисонов.Потом я был довольно послушен в то время, но это причинило мне внутренний вред. То, что для меня было само собой разумеющимся, этот бессмысленный запрос воды и необычайный ужас быть вынесенным наружу, были двумя вещами, которые я, в силу своей природы, никогда не мог должным образом связать друг с другом. Даже годы спустя меня мучила мучительная фантазия, что огромный человек, мой отец, высший авторитет, придет почти без всякой причины, вытащит меня ночью из постели и вынесет на [балкон], и что означало, что я был для него просто ничем.
В остром причитании, которое напоминает контрастное детство Анри Матисса, купавшегося в родительской поддержке, Кафка оплакивает отношение своего отца к его академическим и творческим усилиям:
Что мне нужно, так это небольшая поддержка, немного дружелюбия, немного сдерживания моей дороги, вместо которой вы заблокировали ее для меня, хотя, конечно, с добрым намерением заставить меня пойти другой дорогой.Но я не годился для этого… В то время, и в то время я всячески нуждался в поддержке.
Размышляя об особенно гнетущем «интеллектуальном господстве» своего отца, Кафка говорит об особом бремени детей, чьи родители своими собственными усилиями поднялись из бедности к успеху. (На самом деле, Германн вырос в семье среднего класса, но любил мифологизировать невзгоды своей юности после того, как стал успешным бизнесменом.) С проницательным пониманием синдрома самодовольства, который случается со многими такими самодельными людьми, которые приходят в верит в свой миф о всемогуществе, пишет Кафка:
Вы проделали свой путь так далеко вверх только за счет собственных энергий, и в результате вы обрели безграничную уверенность в своем мнении.Для меня в детстве это было не так ослепительно, как для мальчика позже. Из своего кресла вы правили миром. Ваше мнение было правильным, все остальные были сумасшедшими, дикими, meshugge , ненормальными. Ваша уверенность в себе была настолько велика, что вам вовсе не нужно было быть последовательным, и все же вы никогда не переставали быть правыми. Иногда случалось, что у вас не было никакого мнения по какому-либо вопросу, и в результате все мнения, которые были вообще возможны по этому поводу, обязательно были ошибочными, без исключения.Вы могли, например, разгромить чехов, затем немцев, а затем евреев, причем не только выборочно, но и во всех отношениях, и в конце концов никого не осталось, кроме вас самих. Для меня вы приобрели загадочное качество, присущее всем тиранам, права которых основаны на их личности, а не на разуме.
И снова Кафка возвращается к тому, как искаженный и солипсистский взгляд его отца на реальность заставил его собственный истекать неуверенностью и неуверенностью в себе:
Все эти мысли, кажущиеся независимыми от вас, с самого начала были отягощены вашими умаляющими суждениями; это было почти невозможно вынести и при этом проработать мысль с какой-либо мерой полноты и постоянства.
Одной из наиболее частых форм принижения была привычка Германа отвергать все, что волновало и вдохновляло юного Франца, неизменно подавляя его интерес к чему-либо — особенно ядовитой змеи, которую можно иметь в своем гнезде инкубации идей. Он пишет:
Молодой Франц КафкаНужно было только быть счастливым от чего-то, быть наполненным мыслью об этом, прийти домой и поговорить об этом, и ответом был иронический вздох, покачивание головой, постукивание по столу. пальцем… Конечно, нельзя было ожидать, что ты будешь в восторге от каждой детской мелочи, когда находишься в состоянии беспокойства и беспокойства.Но дело было не в этом. Скорее, в силу своей враждебной натуры вы не могли не причинять ребенку таких разочарований всегда и неизбежно; и далее этот антагонизм, накапливая материал, постоянно усиливался; в конце концов образец выразился, даже если на этот раз вы были того же мнения, что и я; наконец, эти детские разочарования не были обычными разочарованиями в жизни, но, поскольку они касались вас, самого важного персонажа, они ударили по самой сути.Смелость, решимость, уверенность, восторг от того или иного не могли длиться долго, когда вы были против этого или даже если ваше противодействие просто предполагалось; и это предполагалось почти во всем, что я делал.
Написанный всего через пять лет после того, как Фрейд представил концепцию нарциссизма и за полвека до того, как нарциссическое расстройство личности было классифицировано в психиатрической библии, Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам , Кафка предлагает совершенный и дальновидный диагноз. его отец:
Что всегда было для меня непонятным, так это ваше полное отсутствие чувства страдания и стыда, которое вы могли причинить мне своими словами и суждениями.Как будто вы понятия не имели о своей силе. Я тоже, я уверен, часто обижал тебя своими словами, но тогда я всегда знал, и мне было больно, но я не мог контролировать себя, не мог сдержать слова, мне было жаль, даже когда я их говорил. Но вы поразили своими словами без лишних слов, вы никого не пожалели ни во время, ни после, один был перед вами совершенно беззащитен.
Любой, кто жил вместе с нарциссом, конечно, осознает хроническое распространение таких двойных стандартов и их многочисленные проявления во всех областях, где применяются правила.Описывая, как Германн дисциплинировал своих детей за обеденным столом, Кафка иллюстрирует эту нарциссическую тенденцию прекрасным аллегорическим анекдотом:
Главное, чтобы хлеб резался ровно. Но не имело значения, что вы сделали это ножом, с которого капала подливка. Необходимо было следить за тем, чтобы на пол не падали обрывки. В конце концов именно под вашим стулом было больше всего записок.
Самый душераздирающий эффект этих дезориентирующих двойных стандартов заключается в том, что ребенок совершенно запутывается в правильном и неправильном, поскольку кажется, что они постоянно меняются местами в зависимости от того, кто совершает действие, и начинает усваивать представление о том, что он или она всегда виноваты. .Вместо того, чтобы держать зеркало, чтобы подтвердить опыт ребенка в реальности, такой родитель вместо этого заманивает ребенка в ловушку в лабиринте зеркал, которые никогда не отражают точное или статичное изображение. Те, кто пережил это, знают, как легко это метастазирует в глубоко укоренившееся убеждение, что чья-то интерпретация реальности, особенно когда реальность неоднозначна или неопределенна, всегда неверна, ошибочна, полностью опровергнута простым существованием чужая интерпретация.
Вследствие этого погружения в неуверенность и неуверенность в себе Кафка все больше беспокоился о своем теле и здоровье — осязаемом аспекте реальности:
Так как не было вообще ничего, в чем я был бы уверен, так как мне нужно было в каждый момент получать новое подтверждение моего существования, поскольку ничто не было в моем собственном, несомненном, единственном владении, однозначно определенном только мной — в по трезвой правде — лишенный наследства сын — естественно, я стал неуверен даже в том, что мне ближе всего — в собственном теле.
Это проложило путь для «всякого рода ипохондрии» и породило широкий спектр тревог по поводу «пищеварения, выпадения волос, искривления позвоночника и т. Д.», Которые переросли в мучительные фиксации, пока он, наконец, не поддался настоящей болезни — туберкулез, который в конечном итоге унесет его жизнь.
Кафка запечатлел этот изнуряющий танец с разочарованием и неуверенностью в другом душераздирающем увещевании:
Иллюстрация из My First Kafka Мэтью Рота, адаптации Kafka для детей.Пожалуйста, отец, поймите меня правильно: сами по себе это были бы совершенно незначительные детали, они меня удручали только потому, что вы, столь авторитетный человек, не соблюдали заповеди, которые вы мне наложили.Следовательно, мир был для меня разделен на три части: одна, в которой я, раб, жил по законам, которые были изобретены только для меня и которые я мог, я не знал почему, никогда полностью не соблюдать; затем второй мир, бесконечно удаленный от меня, в котором вы жили, озабоченные правительством, отдаванием приказов и раздражением из-за того, что им не подчиняются; и, наконец, третий мир, где все остальные жили счастливо, свободные от приказов и необходимости подчиняться. Я постоянно пребывал в опале; либо я подчинялся вашим приказам, и это было позором, потому что они относились, в конце концов, только ко мне; или я был непокорным, и это тоже было позором, потому что как я мог осмелиться бросить вам вызов; или я не мог повиноваться, потому что у меня не было, например, вашей силы, вашего аппетита, вашего мастерства, хотя вы, естественно, ожидали от меня этого; это было величайшим позором из всех.
Кафка обращается к тому, как взрывной темперамент его отца разрушил надежду молодого человека на то, что его поймут — а это то, что нужно каждому — уничтожив возможность спокойного, гражданского разговора в семье:
[Ваш] пугающий, хриплый оттенок гнева и полного осуждения … сегодня только заставляет меня дрожать меньше, чем в детстве, потому что исключительное чувство вины ребенка было частично заменено пониманием нашей беспомощности, вашей и моей.
Невозможность спокойно ужиться вместе привела к еще одному результату, на самом деле очень естественному: я потерял способность говорить. Осмелюсь сказать, что в любом случае я не стал бы очень красноречивым человеком, но, в конце концов, я бы приобрел обычную беглость человеческого языка. Но на очень раннем этапе вы запретили мне говорить. Ваша угроза: «Ни слова противоречия!» и поднятая рука, сопровождавшая его, с тех пор была со мной. То, что я получил от вас — а вы, когда дело касается ваших личных дел, отличный говорящий — был нерешительным, запинающимся способом речи, и даже это было для вас все еще слишком, и, наконец, я промолчал. сначала, возможно, из-за неповиновения, а затем потому, что я не мог ни думать, ни говорить в вашем присутствии.И поскольку именно вы меня воспитали, это отразилось на моей жизни.
[…]
Ваши чрезвычайно эффективные риторические методы воспитания меня, которые никогда не подводили меня, были: оскорбления, угрозы, ирония, злобный смех и, как ни странно, жалость к себе.
Эта смесь оскорбительного апломба и мученичества кажется обычным явлением для нарциссического тирана — знакомым, по крайней мере, тем, кто пострадал от него, — но Кафка добавляет еще больше измерения, указывая на то, что самое ужасное насилие его отца было нанесено не прямыми ударами, а токсический осмос, этот душераздирающий эффект присутствия в присутствии злого и духовно истощающего деспота:
Я не могу припомнить, чтобы вы когда-либо оскорбляли меня прямо и в откровенно оскорбительных выражениях.И в этом не было необходимости; у вас было так много других методов, и, кроме того, в разговорах дома и особенно в бизнесе слова оскорблений облетали меня такими роями, как они бросались в головы других людей, что, будучи маленьким мальчиком, я иногда был почти ошеломлен и не было причин не применять их и ко мне, потому что люди, с которыми вы оскорбляли, были не хуже меня, и вы определенно были недовольны ими не больше, чем мной. И здесь снова была ваша загадочная невиновность и неприкосновенность; ругались и ругались без малейшего колебания; тем не менее, вы осуждали проклятия и брань в других людях и не желали этого.
Постоянные угрозы его отца, утверждает Кафка, были в некотором смысле более болезненными, чем реальный вред, который они обещали, но редко приносили. «Чувства притупились этими постоянными угрозами», — сетует он , но, более того, они обусловили искаженное ощущение того, что решение его отца не применять обещанное наказание было великим актом великодушия:
Один, как казалось ребенку, остался жив по вашей милости и отныне нес свою жизнь как незаслуженный дар от вас.
[…]
Верно и то, что ты меня почти никогда не бичевал. Но крик, то, как твое лицо покраснело, поспешное снятие подтяжек и укладывание их на спинку стула, все это было для меня почти хуже. Будто кого-то повесят. Если его действительно повесят, значит, он мертв, и все кончено. Но если ему придется пройти все подготовительные этапы к повешению и он узнает о отсрочке наказания только тогда, когда петля болтается перед его лицом, он может страдать от этого всю свою жизнь.Кроме того, из многих случаев, когда я, согласно вашему ясно выраженному мнению, заслуживал порки, но был отпущен в последний момент по вашей милости, у меня снова накопилось только огромное чувство вины. Я был виноват со всех сторон, я был у тебя в долгу.
В самом деле, это касается самого разрушительного и смертоносного эффекта взросления в такой эмоциональной среде — способа, которым мы приходим к тому, что принимаем крошки милосердия за пир любви. Кафка вспоминает те редкие проблески элементарной родительской заботы и привязанности, к которым ребенок каждого насильника учится цепляться, как к самому драгоценному подтверждению существования:
К счастью, из всего этого были исключения, в основном, когда вы страдали в тишине, а любовь и доброта своими собственными силами преодолевали все препятствия и сразу же тронули меня.Это было редкостью, но было замечательно. Например, раньше, жарким летом, когда вы устали после обеда, я видел, как вы дремали в офисе, положив локоть на стол; или вы приехали к нам за городом, на летние каникулы, по воскресеньям, уставшие от работы; или о том времени, когда мама тяжело заболела, и вы стояли, держась за книжный шкаф, дрожа от рыданий; или когда во время моей последней болезни ты на цыпочках подошел ко мне в комнату Оттлы, остановился в дверном проеме, вытянул шею, чтобы увидеть меня, и из уважения только помахал мне рукой.В такие моменты можно было лежать и плакать о счастье, а теперь снова плачут, записывая это.
Затем он обращается к другой сокрушительной сложности таких домашних хозяйств — к роли пассивного родителя как соучастника обидчика и, следовательно, к исполнителю параллельного эмоционального предательства, неспособного обосновать замешательство ребенка и утвердить страдания, причиненные обидчиком. Кафка пишет:
Это правда, что Мать была безгранично добра ко мне, но для меня все, что было в отношении вас, то есть не в хорошем отношении.Мать бессознательно сыграла на охоте роль загонщика. Даже если ваш метод воспитания мог бы в каком-то маловероятном случае поставить меня на ноги, вызывая во мне неповиновение, неприязнь или даже ненависть, Мать снова нейтрализовала это добротой, разумно говоря в детстве она была прообразом здравого смысла и рассудительности), умоляя меня; и меня снова загнали обратно на вашу орбиту, из которой я, возможно, иначе вырвался бы, в вашу пользу и для себя.
[…]
Если мне суждено было сбежать от тебя, мне пришлось бы сбежать и от семьи, даже от матери. Правда, от нее всегда можно было получить защиту, но только по отношению к вам. Она слишком сильно любила вас и была слишком предана и предана вам, чтобы долгое время быть независимой духовной силой в детской борьбе.
Задолго до того, как психологи продемонстрировали, как наши ранние паттерны привязанности связаны с тем, как мы соединяемся в дальнейшей жизни, Кафка сожалеет о пагубном влиянии эмоционального насилия своего отца на его последующие отношения:
Отношения с людьми вне семьи… возможно, еще больше пострадали под вашим влиянием.Вы полностью ошибаетесь, если считаете, что я делаю все для других людей из-за привязанности и преданности, а для вас и вашей семьи — ничего из-за холодности и предательства. Я повторяю в десятый раз: даже при других обстоятельствах я, наверное, должен был бы стать застенчивым и нервным человеком, но это долгий темный путь оттуда туда, куда я действительно пришел.
Но для Кафки наиболее обескураживающим проявлением хронического неодобрения его отца было то, что было направлено на его сочинение:
[В моем письме] Я действительно отошел от вас на некоторое расстояние своими собственными усилиями, даже если он немного напоминал червя, который, когда ступня наступает на ее хвостовой конец, отрывается передней частью и тащит себя в сторону.До некоторой степени я был в безопасности; появилась возможность вздохнуть свободно. Отвращение, которое вы, естественно, сразу же вызвали к моим письмам, на этот раз было для меня приятным. Мое тщеславие, мои амбиции действительно пострадали из-за того, что вы, ставшая пословицей, приветствовали прибытие моих книг: «Положите их мне на тумбочку!» (обычно ты играл в карты, когда приходила книга)… Все мои произведения были о тебе; В конце концов, все, что я сделал там, это оплакивать твою грудь, о чем не мог оплакивать. Это было намеренно затянувшееся прощание с вашей стороны, но, хотя вы его принуждали, оно действительно развивалось в направлении, определенном мной.
Позже он добавляет:
В своих статьях и во всем, что с ними связано, я предпринял несколько попыток независимости, попыток бегства, но с очень маленьким успехом; они вряд ли пойдут дальше; многое для меня подтверждает. Тем не менее, моя обязанность или, скорее, суть моей жизни — следить за ними, чтобы никакая опасность, которую я могу предотвратить, или даже возможность такой опасности не приближалась к ним.
Вначале отношение отца к его интеллектуальным и творческим интересам посеяло семена синдрома самозванца.Сравнивая себя в молодости с банковским клерком, который совершил мошенничество, но продолжает работать в постоянном страхе, что его разоблачат, Кафка вспоминает одну особенно мучительную фантазию, которая была у него в старшей школе:
Часто мысленным взором я видел ужасное собрание учителей… как они встречались, когда я сдал первый класс, потом во втором классе, когда я сдал, а потом в третьем и так далее. собрались, чтобы изучить этот уникальный, возмутительный случай, чтобы выяснить, как мне, самому неспособному и, во всяком случае, самому невежественному из всех, удалось подкрасться так далеко, как этот класс, который теперь, когда всеобщее внимание наконец-то был сосредоточен на мне, конечно, мгновенно извергнет меня, к ликованию всех праведников, освобожденных от этого кошмара.Ребенку нелегко жить с такими фантазиями.
Но самая красивая фраза во всем письме представлена почти в стороне, поскольку Кафка размышляет о вещах, которые его отец осуждал как неудачи, в том числе о его разорванной помолвке, и изящно предостерегает от опасностей догматического перфекционизма:
Ведь не обязательно лететь прямо посреди солнца, а нужно доползти до чистенького места на земле, где иногда светит солнце и можно немного погреться.
Кафка заканчивает письмо лирическим и душераздирающим размышлением о его конечной цели — предложить небольшую дверь для восстановления отношений, несмотря на их огромные различия:
На самом деле вещи не могут соответствовать друг другу, как доказательства в моем письме; жизнь — это больше, чем китайская головоломка. Но с исправлением, сделанным в этом реплике — исправлением, которое я не могу и не буду вдаваться в подробности, — по моему мнению, было достигнуто нечто такое, что настолько близко соответствует истине, что может немного успокоить нас обоих и облегчить нашу жизнь и смерть.
Хотя старинный перевод письма Кайзера / Уилкинса неизменно превосходен, только в этом последнем абзаце я нахожу более поздний перевод Говарда Колайера превосходящим по элегантности и очарованию:
В жизни все складывается не так четко, как доказательства в моем письме — жизнь — это больше, чем игра в терпение. Но, допустив этот ответ, который я не могу и не хочу сейчас вдаваться в подробности, я все еще считаю, что в моем письме есть доля правды, оно приближает нас к истине и, следовательно, может позволить нам жить и умереть с более мягкий и легкий дух.
И все же, несмотря на всю автобиографическую трагедию, запечатленную в литании злоупотреблений и разочарований Кафки, самой трагичной из всех является судьба письма. По словам друга и официального биографа Кафки Макса Брода, измученный автор не отправил письмо по почте, а отдал его своей матери Джули, чтобы передать Герману. Но она так и не сделала — вместо этого вернула его сыну. В конце концов, самая разрушительная патология таких отношений — это компульсивное усилие ребенка — будь то тщетная надежда или конкретное действие — искоренить демонов жестокого родителя и заставить ничтожных ангелов терпеть, только чтобы каждый раз разочаровываться снова и снова. демоны вновь поднимают свои бессмертные головы.Возможно, Джули почувствовала это и попыталась наилучшим из известных ей способов избавить сына от окончательного разочарования, увидев, что эта грандиозная надежда рухнула.
Ослабьте психоэмоциональную нагрузку Письмо к отцу — потрясающее, но совершенно замечательное чтение в целом — с Марком Твеном о том, что его мать научила его состраданию, и Рэйчел Карсон о воспитании детей и о том, почему это важнее чувствовать чем знать.
Писем Кафки Франца Феличе Шокен 1973.pdf — Kafka — książki pol i ang — redaktor_sport
Wykorzystujemy pliki cookies и подобная технология w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.
Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, wyrażasz zgodę na ich umieszczanie na Twoim komputerze przez administratora serwisu Chomikuj.pl — Kelo Corporation.
W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności — http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.
Jednocześnie informujemy że zmiana ustawień przeglądarki może spowodować ograniczenie korzystania ze strony Chomikuj.pl.
W przypadku braku twojej zgody na akceptację cookies niestety prosimy o opuszczenie serwisu chomikuj.пл.
Wykorzystanie plików cookies przez Zaufanych Partnerów (dostosowanie reklam do Twoich potrzeb, analiza skuteczności działań marketingowych).
| Wyrażam sprzeciw na cookies Zaufanych Partnerów |
|
Wyrażenie sprzeciwu spowoduje, że wyświetlana Ci reklama nie będzie dopasowana do Twoich preferencji, a będzie to reklama wyświetlona przypadkowo.
Istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Można również usunąć pliki cookies, dokonując odpowiednich zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Полную информацию о десяти темах, известных под адресом http://chomikuj.pl/PolitykaPrywatnosci.aspx.
В поисках куклы Франца Кафки
[ Примечание редактора: Лила Лизабет Вайсбергер — психолог, ведущий сотрудник Национального института поэзии и соавтор книги «Исцеляющий фонтан: Поэтическая терапия для жизненного пути».Она также моя мать. — Леви Ашер ]Я интересуюсь историями исцеления, и я создаю свои собственные истории, а также изучаю методы, используемые другими. Я читал книгу Пола Остера, The Brooklyn Follies , потому что в прошлом мне нравились произведения Остера. Меня также привлекло название книги, так как я вырос в Бруклине, Нью-Йорк. Я был удивлен, когда Том, главный герой романа, рассказал на странице 153 об истории исцеления, которую Франц Кафка написал для маленького ребенка, которого он встретил в парке, который плакал о своей потерянной кукле.
Отрывок из книги:
Каждый день Кафка выходит на прогулку в парк. Чаще всего с ним идет Дора. Однажды они сталкиваются с маленькой девочкой в слезах, рыдающей до глубины души. Кафка спрашивает ее, что случилось, и она говорит ему, что потеряла куклу. Он сразу же начинает придумывать историю, чтобы объяснить, что произошло. «Твоя кукла уехала в путешествие», — говорит он. «Откуда ты это знаешь?» — спрашивает девушка. «Потому что она написала мне письмо, — говорит Кафка… — Я принесу его с собой завтра.«Кафка идет прямо домой, чтобы написать письмо. Он садится за свой стол, и, наблюдая, как он пишет, Дора замечает ту же серьезность и напряжение, которые он проявляет, сочиняя свою собственную работу. Он не собирается обманывать маленькую девочку. Это настоящий литературный труд и убедительная ложь, она заменит потерю девушки другой реальностью — может быть, фальшивой, но чем-то правдивым и правдоподобным по законам фантастики.
Главный герой, Том, говорит, что его сердце начало разрываться, когда он понял, что Кафка каждый день возвращается в парк с новым письмом, которое он написал для маленькой девочки и объяснил, что оно написано куклой.Кафка разрабатывает сюжет букв так, чтобы маленькая девочка Нэнси понимала, почему кукле пришлось уйти, и в результате ее боль облегчилась. Каждый день он возвращается в парк и дает ей письмо, которое, как он объясняет, было отправлено ему куклой маленькой девочки Сьюзи.
Читая дальше, я задавался вопросом, действительно ли сказка о путешествии потерянной куклы была написана Кафкой и была ли она исторически правильной. Я спрашивал людей, которые, как я знал, хорошо разбирались в литературе, но безрезультатно. И тогда я зашел в поисковик: google.Я не ожидал, что мне удастся найти упоминания о Кафке как о писателе рассказов о куклах. Попробовав только два слова, «Кафка» и «Кукла», я, к своему удивлению, обнаружил много ссылок на эту историю и лишь незначительные различия в деталях. Я был в восторге от своей находки! Мне было приятно идти по следу вместе со специалистами из Германии и других стран. Я был удивлен интересом, который так много людей проявили к сказке, и усилиям, которые прилагались на протяжении многих лет, чтобы найти рукопись или кого-то, кто из первых или вторых рук знал о ее существовании.Был проведен ряд поисков, чтобы найти письма и найти семью этой маленькой девочки, которой в 1996 году должно было быть более 90 лет. Общий вывод заключался в том, что Кафка действительно написал эти пропавшие буквы и имел чуткую сторону, настолько отличную от того, что читатели из его более темных работ, таких как Метаморфоза , можно было бы ожидать. К сожалению, общий вывод экспертов состоит в том, что эти письма, скорее всего, были уничтожены, как и другие рукописи Кафки.
Интересно, нашел ли автор Пол Остер ссылки на историю о потерянной кукле и письма, как это сделал я, в Интернете.Некоторые из ссылок были написаны до того, как его книга была опубликована, а некоторые после.
В блоге книжных обзоров я нашел одну из книг Пола Остера Бруклинские безумства . Рецензент сказал, что эту книгу не обязательно читать, но что в ней есть главный момент, и это отрывок о Кафке. Думаю, в конце концов, это то, что мне больше всего запомнилось в книге. В конце концов, я могу забыть, где я изначально видел историю о Кафке и потерянной кукле, но я не забуду целебные свойства этой сказки и ту удивительную радость, которую я испытал, читая ее.
Последним удовольствием в моих поисках было обнаружение длинного стихотворения или рассказа, написанного поэтом по имени Дин Блехерт под названием «Путешествие кукол». В этой работе Сьюзи — имя куклы, а Нэнси — имя маленькой девочки. С помощью матери Нэнси отвечает на последнее письмо, полученное от Сьюзи. Блехерт пишет, что идея этой иллюстрированной работы возникла из сноски в биографии Франца Кафки.
Отрывок из этого стихотворения / книги Дина Блехерта:
Теперь мама сидит
За кухонным столом, Нэнси на стуле
Рядом с ней.«Скажи, что я скучаю по ней, но это хорошо.
Она может путешествовать … О! И попробуй увидеть
Короля в Лондоне, и что я никогда не буду
Возьми другую куклу, так что, пожалуйста, приходи домой
Когда-нибудь и это …»
Каждый день новое письмо, новое место,
Весь секрет, который она даже не расскажет своему другу,
Хотя временами она взрывается, чтобы рассказать,
Как когда, через песочницу, она описывает
Дворец, в котором можно грести с веслами в Венеции,
И Пэт говорит: «Откуда ВЫ это знаете?»
«Ну… моя мама
Сказал мне! Когда-нибудь я пойду и посмотрю сам. «
Было бы весело рассказать, но это даже
Интереснее не рассказывать. Она почти надеется, что ее кукла
Никогда не вернется, но продолжает отправлять
письма отовсюду».
Сцена ожила у меня на глазах, и я почувствовал себя исследователем и детективом. Теперь у меня все больше и больше мотивации для работы с историями исцеления. Я погуглил «истории исцеления» и, конечно же, нашел страницы, посвященные этой теме. Возможно, вы также захотите исследовать истории исцеления и узнать больше о письмах Кафки Нэнси.Я с нетерпением жду возможности услышать что-нибудь еще об этой истории.
(Примечание: на первом фото выше изображена любимая детская кукла Лилы, которая у нее все еще есть. На втором фото показаны три куклы, которые она создала из лиц трех своих младших внучок. «В поисках куклы Франца Кафки» ранее публиковалось в Museletter , официальное издание Национальной ассоциации поэзии.)
«Метаморфоза» Франца Кафки
Перевод Яна ДжонстонаОднажды утром, когда Грегор Замза просыпался от тревожных снов, он обнаружил, что в постели превратился в чудовищного паразита.Он лежал на своей твердой, как броня, спине и, когда немного приподнял голову, увидел, как его коричневый изогнутый живот разделен на жесткие лукообразные части. С такой высоты одеяло, вот-вот готовое полностью соскользнуть, с трудом могло оставаться на месте. Его многочисленные ноги, жалко худые по сравнению с остальной частью его окружности, беспомощно мерцали у него на глазах.
«Что со мной случилось?» — подумал он. Это был не сон. Его комната, подходящая для человека, только несколько тесноватая, тихо лежала между четырьмя хорошо известными стенами.Над столом, на котором была разложена распакованная коллекция образцов ткани (Замза был коммивояжером), висела картина, вырезанная им недавно из иллюстрированного журнала и вставленная в красивую позолоченную рамку. Это была фотография женщины в меховой шапке и меховом боа. Она села прямо, подняв в сторону зрителя прочную меховую муфту, в которой исчезло все ее предплечье.
Затем взгляд Грегора обратился к окну. Унылая погода (капли дождя громко падали на металлический подоконник) заставляли его очень грустить.«Почему бы мне еще немного поспать и не забыть всю эту глупость», — подумал он. Но это было совершенно непрактично, потому что он привык спать на правом боку, и в своем нынешнем состоянии он не мог попасть в эту позу. Как бы сильно он ни бросался на правый бок, он всегда снова перекатывался на спину. Он, должно быть, пробовал это сто раз, закрыв глаза, чтобы не видеть извивающихся ног, и сдался только тогда, когда начал чувствовать легкую тупую боль в боку, которой он никогда раньше не чувствовал.
«О Боже, — подумал он, — какую ответственную работу я выбрал! День за днем в дороге. Стресс в торговле намного больше, чем работа в головном офисе, и, вдобавок к этому, мне приходится иметь дело с проблемами путешествий, беспокойством о железнодорожном сообщении, нерегулярной плохой едой, временными и постоянно меняющимися человеческими отношениями, которые никогда не исходить из сердца. К черту все это! Он почувствовал легкий зуд в верхней части живота. Он медленно приподнялся на спине ближе к столбу кровати, чтобы легче было поднять голову, обнаружил зудящую часть, которая была полностью покрыта маленькими белыми пятнами (он не знал, что с ними делать), и захотел пощупать место ногой.Но он тут же отказался от этого, потому что прикосновение было похоже на холодный душ.
Он снова скользнул в прежнее положение. «Такой ранний подъем, — подумал он, — делает человека совершенно идиотом. Мужчина должен спать. Остальные коммивояжеры живут как гаремные женщины.
Франц Кафка
Франц КафкаФранц Кафка
* 3.
7.
1883 Прага
3.6.
1924 Кирлинг (Раковско)
Od potku trpl rozporem mezi touhou po spisovatelsk prci (j se mohl vnovat jen o dovolench a v noci), ктероу поваовал за св послн, эдникм поволнм, kter pohlcovalo vtinu jeho asu. Jeho pokusy o uzaven manelstv a zaloen rodiny (dvojnsobn zasnouben s Felici Bauerovou a zasnouben s Juli Vohryzkovou) сконенил нездарем. Za svho ivota publikoval jen nkolik tlch knih povdek a rt: Rozjmn ( Betrachtung , 1912), Topi ( Der Heizer , г. 1913), Промна ( Die Verwandlung , 1915), V trestaneck kolonii ( In der Strafkolonie , г. 1919), Venkovsk lka ( Ein Landarzt , 1919), Umlec v hladovn ( Ein Hungerknstler , г. 1924 г., выло у по К.смрити). Jeho nejvt prce, romny Nezvstn ( Der Verschollene Max Brod jej vydval pod titulem Amerika ), Proces ( Der Prozess ) и Zmek ( Das Schloss ) zstaly фрагменты. Певноу ул К. dla krom zmnnch prz tvo dopisy rznm adrestm a denkov zznamy: aforismy, rty, Денн Зписки vcemn dokonen povdky. Аколи К. dlo vzniklo v zce vymezen lokalit prask nmecko-idovsk literatury na pelomu 19.а 20. столет по авторам смрти и зеймна по 2. Свтов влце дошло розен по челм свт а вразн овливнило свтову литературу друх половины 20. столет. Je sice pedevm pedmtem vzkumu Litrern Historyie A Litterrn Vdy jeho hranice vak daleko pesahuje. Pro svou mylenkovou hloubku, отевеность многознамовость набв в рзнч добч стле новч актуализац. Выповд як о индивидуальн психологии, так о мезилидскч социльнч взтаж. V jeho centru le existenciln otzky modernho lovka a lidstva, проблема розрун интерсубъективнч взтах в содоб сполености, Конфликту ловка с мок, механизм мочи, etickho jednn a podizovn se zkonm, а у справедливм небо жен моценский вынукованм.Znovu a znovu autor zkoum meze lidsk svobody, правды а ли, аутентичность одновозености. В вахч едннч постав К. dl se zrcadl absurdita lidsk существование. Протос К. dlo stalo pedmtem vzkum i filozof, теолог психолог психиатр, социолог и политолог. ада литеррнч смр была К. овливнна, pokldala jej za svho soubce (expresionismus) и pedchdce (сюрреализм, inspirovan zvlt snovou rovinou v K. dlech a spojujc je s psychoanalzou, зеймна пак экзистенциализм кде псобило овливнн длем С.Кьеркегора). Экзистенциалист zaazuj mezi zkladn praeexistencialistick texty K. повдку Промна . Теологов птрай по старозконнч и новозконнч здройч К. мыленковч процесс, vedou spory o to, do jak mry se K. pibliuje judaismu и kesanstv (Judaistick vchodisko zdrazoval Max Brod). Нкте хо повауй за пророка, jemu osvcenm se dostalo jasnozivosti k pedpovdm kataklysmatickch jev na doby (totalitnch reim, druh svtov vlky s nacistickmi koncentranmi tbory a holokaustem, кризе постиндустрильн сполености апод.). Отевеность, неэднознаность К. текст podncuje velk mnostv asto protichdnch interpac, v nich se translti sna prostednictvm K. для просазовать властьн свтонзоров становиска.
А был К. психическая лабильность, плачм самотем а в подстат аполитикм ловкем, Jeho dlo se asto stv pedmtem politickch zpas. Komunist je zsadn odmtali jako produkt buroazn dekadence; pipoutli nanejve jeho socilnkritickou dimenzi vi buroazn spolenosti, kter je vak Historicky omezena a v socialistick spolenosti pekonna.Naopak odprci совокупность К. дло вызввали яко зрcадло современные сполености вбэц а его жмнем се доволвали свободы в отэвэн сполености. (Либлик конференция К. v r. 1963 была по р. 1968 г. официлн выдвна за жэдэн з идейч здрой контрреволюции в ССР.) V 90. л. naeho stolet se u ns К. dlo stalo mdou, vyuvanou и komern pro turistick nvtvnky Prahy. И кды нейсильный кафковск влны зйму о списовательо дло у опадлы, oprvnn zstv tmatem vdeckho bdn i umleck inspirace na celm svt.
Библиография:
К.
списы выдвал Макс Брод нейпрве еднотлив ( Proces , г.
1925 г., Zmek , г.
1926 г., Америка ,
1927 г., Beim Bau der chinesischen Mauer ,
1931),
pozdji jako sebran spisy v Berln a Praze (193537,
челкем 6 свазк),
po vlce ve Frankfurtu n.
М.
Позди были допловны дальми связи корреспонденция: Dopisy Milen ( Briefe an Milena ,
1952 г.,
изд.W.
Хаас), Dopisy Felici ( Briefe an Felice und andere Korespondenz aus der Verlobungszeit ,
1967,
изд.
Э.
Хеллер,
Дж.
Родившийся), Dopisy Ottle ( Briefe an Ottla und die Familie ,
1974,
изд.
ЧАС.
Связующее,
К.
Вагенбах), Дописы родим з лет 19221924 ( Briefe an die Eltern 19221924 ,
1990 г.,
изд.
Дж.
эммк,
В.Свато).
К.
Hermsdorf vydal v r.
1984 edn spisy ( Amtliche Schriften ).
Kritick vydn sebranch spis F.
К.
vychz od r.
1982 против С.
Фишер Верлаг,
Франкфурт а.
М.
Na jeho zklad vydal H.
ГРАММ.
Кох в тмэ наложений тинктисвазков тэнськ собор К.
spis (1994).
Этина Дже Патрн Првнм Языкем,
до но была К.
для пеклдна.
У в р.
1920 цвет Topi (Эрвен),
исследования Ortel (pod titulem Soud , г.
Cesta 1923), Промна (1928), Венковск лка (1931), Zmek (1935).Po vlce vyly Rozjmn pod titulem Pozorovn (1946), Proces (1958), Америка (1962), Dopisy Milen (1968), Повдки (1954; повдки выдан за К.
ivota) a Popis jednoho zpasu (1968; нов.
rty,
афоризма з позсталости).
Покусы о выдвн К.
спис бу небылы реализованный (концем 40.
позволять),
Небо зсталы торзем (v 60.
Летек).
В 90.
letech vyla nov vydn vech do etiny peloench prac i nkter dal (vbor z Dopis Felici , г.
1991, Dopisy Ottle , г.
1996, Denky 190912 , г.
1997).
Literatura (з розшл литературы о К.
uvdme jen nkter knin prce zabvajc se i filozofickmi aspekty jeho dla):
◦ A.
Камю: Le Mythe de Sisyphe,
1942;
◦ C.
Э.
Маньи: Les sandales d’Empdocle,
1945;
◦ G.
Андерс: К.
Pro и Contra,
1951;
◦ T.
W.
Адорно: Присман,
1955;
◦ F.
Weltsch: Religion und Humor im Leben und Werk F.
К.,
1957;
◦ W.
Эмрих: Ф.К.,
1958;
◦ A.
