ЛИТЕРАТУРА XVII В.. Литература Древней Руси
ЛИТЕРАТУРА XVII В.
XVII веку суждено было продолжить и развить тенденции, наметившиеся в литературе эпохи русского Предвозрождения. Именно этот век, по словам Д. С. Лихачева, «принял на себя функцию эпохи Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был «особым», неузнанным в своем значении».[104]
Это был век, когда «прочно укоренившиеся за шесть веков литературные жанры легко уживались с новыми формами литературы: с силлабическим стихотворством, с переводными приключенческими романами, с театральными пьесами, впервые появившимися на Руси при Алексее Михайловиче, с первыми записями фольклорных произведений, с пародиями и сатирами».[105]
Характерной чертой литературы XVII в. явилось ее разделение на литературу официальную, «высокую» и демократическую.
Официальная литература первых десятилетий XVII в. сохраняет внешне непосредственную связь с литературными традициями прошлого века. Но важнейшим фактором, определившим новое в ее развитии, явилась сама историческая действительность. Русь переживала едва ли не самый сложный период своей истории, получивший в историографии выразительное наименование Смутного времени. Авторы исторических повествований, в немалом количестве появившихся в это время, пребывают в смятении, видя «беды», пришедшие «на все преславное Российское царство». Но смятение не приводит к душевной расслабленности, не уводит их от волнующих политических и военных проблем; напротив, литературные произведения этого времени необычайно темпераментны, публицистичны, их авторы настойчиво ищут причины постигших страну бедствий. Их уже не удовлетворяет традиционное объяснение средневековой историографии, что бог «наказывает» страну «за грехи наши», они ищут виновников бедствий, пристально всматриваясь в своих современников.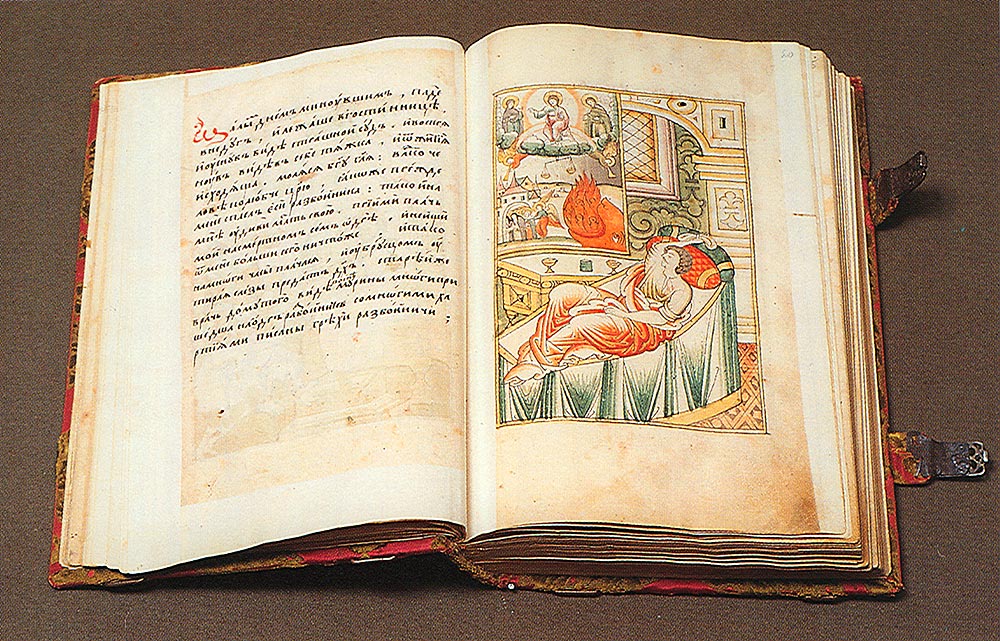
Именно в произведениях, повествующих о событиях Смуты, происходит открытие человеческого характера во всей его сложности, противоречивости и изменчивости. В старой историографии, например в хрониках, разумеется, отмечались перемены в образе мыслей и в поступках того или иного исторического лица. Но такие изменения лишь фиксировались, хронист радовался исправлению грешного, негодовал развращению праведного, но не пытался объяснить эту эволюцию индивидуальными чертами характера данного лица. Писатели XVII в. уже хорошо понимают связь поступка с характером, сложность и изменчивость самих характеров.
Вот, например, Борис Годунов: вначале он «в свое царство в Руском государьстве градов и манастырей и прочих достохвальных вещей много устроив, ко мздоиманию (стяжательству, взяточничеству) же зело бысть ненавистен», был «естеством светлодушен и нравом милостив», однако со временем характер его изменился: «терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи», и если бы не эта перемена, то «могл бы убо всяко древьним уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим».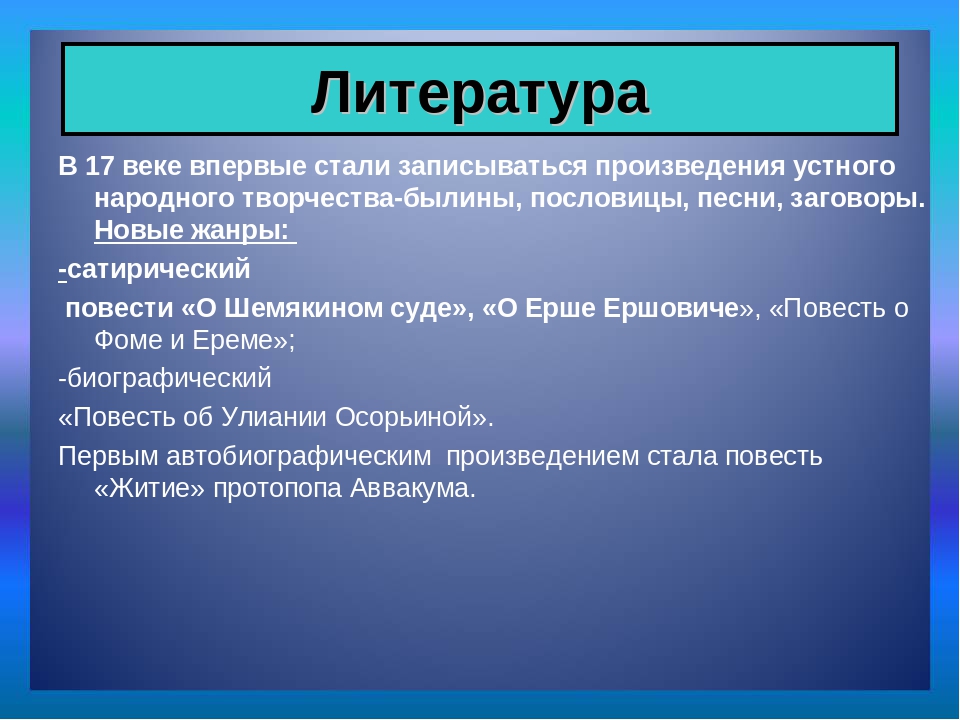
Такой подход к изображению человеческой личности мы находим в новой редакции «Хронографа», в статьях, посвященных событиям начала XVII в., во «Временнике» дьяка Ивана Тимофеева и в других памятниках — это стало общим достоянием, литературным открытием времени, свидетельством начала нового этапа литературного развития.
В исторических сочинениях начала XVII в. авторы пытались осмыслить происходящее, оставить о нем память потомкам, а в ряде случаев оправдать и объяснить свои собственные политические пристрастия или поступки.
В литературе XVII в. восстанавливается репертуар беллетристических памятников XV в.: появляются многочисленные списки «Сербской Александрии», «Повести о Дракуле», «Повести о Басарге», переводного сборника басен «Стефанит и Ихнилат», «Сказания об Индийском царстве» и т. д.
Это нельзя объяснить только лучшей сохранностью более поздних рукописей XVII в. ; несомненно, сказывается снятие «цензурного запрета» на беллетристические «неполезные» повести. Кроме того, эти памятники находят свою литературную среду среди новой волны переводов XVII в., таких, как переводы рыцарских романов («Повесть о Бове», «Повесть о Брунцвике», «Повесть об Аполлонии Тирском» и им подобных), сборников занимательных новелл («Фацеции») или не менее занимательных псевдоисторических преданий (сборник «Римских деяний»).
; несомненно, сказывается снятие «цензурного запрета» на беллетристические «неполезные» повести. Кроме того, эти памятники находят свою литературную среду среди новой волны переводов XVII в., таких, как переводы рыцарских романов («Повесть о Бове», «Повесть о Брунцвике», «Повесть об Аполлонии Тирском» и им подобных), сборников занимательных новелл («Фацеции») или не менее занимательных псевдоисторических преданий (сборник «Римских деяний»).
Создаются новые редакции «Повести об Акире», «Повести о Трое», «Девгениева деяния».
Произведения XVII в., даже те, которые могут быть отнесены к его официальной литературе, свидетельствуют об эмансипации жанров и героев, которую мы отмечали в «Повести о Басарге» или в «Повести о Петре и Февронии», — последнюю лишь формально можно отнести к жанру житий.
Столь же не похожа на традиционный жанр сказания о поставлении монастыря и «Повесть о Тверском Отроче монастыре».
«Повесть о Тверском Отроче монастыре». В повести рассказывается, как некий отрок (здесь в значении — слуга, младший дружинник) тверского князя Ярослава Ярославича Григорий полюбил красавицу Ксению, дочь деревенского пономаря. Юноша просит у ее отца дать согласие на их брак, но тот явно смущен: брак его дочери с Григорием кажется ему слишком неравным. Однако Ксения советует отцу принять предложение Григория. Идут последние приготовления к свадьбе; венчание должно состояться в церкви того села, где живет невеста.
Юноша просит у ее отца дать согласие на их брак, но тот явно смущен: брак его дочери с Григорием кажется ему слишком неравным. Однако Ксения советует отцу принять предложение Григория. Идут последние приготовления к свадьбе; венчание должно состояться в церкви того села, где живет невеста.
Тем временем князь, такой же молодой и красивый, как и его любимец-слуга, отправляется на охоту. Случайно он, следуя за улетевшим от него любимым соколом, попадает в то село, где готовится свадьба Григория и Ксении. Князь входит в дом невесты, где она сидит со своим женихом и гостями, и вдруг Ксения объявляет собравшимся: «Востаните вси и изыдите во стретение своего великаго князя, а моего жениха». Затем она обращается и к изумленному, как и все, Григорию со словами: «Изыди ты от мене и даждь место князю своему, он бо тебе болши и жених мой, а ты был сват мой». Князь, увидев красоту Ксении («аки бы лучам от лица ея сияющим», — скажет автор), «возгореся… сердцем и смятеся мыслию»; в тот же день он обвенчался с Ксенией в сельской церкви.
Как и Феврония, Ксения сама устраивает свою судьбу: именно она отказывает Григорию и объявляет князя своим женихом. Но прав и Д. С. Лихачев, утверждая, что «Ксения, собственно, пассивная героиня. Эта красавица не любит никого, ее любовь — и суженая и этикетная».[106] В этой противоречивости образа Ксении наглядно отражаются сложные переплетения старого и нового в литературе XVII в.
Действительно, с одной стороны, перед нами, бесспорно, новые черты: эмансипируется жанр — в повести сочетается тема земной любви и тема создания монастыря, эмансипируется образ литературного героя: женой князя становится мудрая дева Ксения, наконец, движущей силой сюжета является любовный треугольник. Но с другой стороны, религиозной экзальтацией веет от Ксении. Она действует не из корыстных или чувственных побуждений, а подчиняется «божьему повелению»; князь накануне своей неожиданной свадьбы видит вещий сон, попадает в село он не совсем случайно: его привело чудо, охотничий сокол, который так и не дался князю в руки.
То же столкновение старого и нового мы увидим и в другой повести XVII в. — «Повести о Савве Грудцыне».
«Повесть о Савве Грудцыне». «В лето от сотворения миру 7 114 (1606) бысть во граде Велицем Устюзе некто купец, муж славен и богат зело, именем и прослытием Фома Грудцын-Усовых». В годы Смуты Фома переезжает с семьей в Казань, продолжая свои торговые дела и посылая «струги с товаром» до самой Персии. Как-то он отправил с товарами в городок Орел (на Каме) своего сына Савву. В Орле жил старый друг Фомы — престарелый Важен Второй. Узнав о приезде в свой город Саввы, он уговаривает его поселиться в своем доме. Важен был женат третьим браком на молодой женщине. И вот «ненавидяй же добра роду человечю супостат диавол» возбуждает в жене Бажена и Савве взаимную страсть, причем они предаются любви (а это для благочестивого автора и читателя деталь немаловажная) даже в дни церковных праздников. Как-то Савва «убояся суда божия» (ибо это был день праздника Вознесения) и отказался принять ласки женщины. Оскорбившись, жена Бажена опаивает Савву любовным зельем и одновременно демонстрирует ему свою неприязнь («нимало приветство являше к нему»), а затем, оклеветав юношу перед мужем, добивается изгнания его из дома. Савва страдает от разлуки с приворожившей его женщиной, так что от «великия туги» начинает «красота лица его увядати и плоть его истончяватися» (он похудел, осунулся).
Как-то он отправил с товарами в городок Орел (на Каме) своего сына Савву. В Орле жил старый друг Фомы — престарелый Важен Второй. Узнав о приезде в свой город Саввы, он уговаривает его поселиться в своем доме. Важен был женат третьим браком на молодой женщине. И вот «ненавидяй же добра роду человечю супостат диавол» возбуждает в жене Бажена и Савве взаимную страсть, причем они предаются любви (а это для благочестивого автора и читателя деталь немаловажная) даже в дни церковных праздников. Как-то Савва «убояся суда божия» (ибо это был день праздника Вознесения) и отказался принять ласки женщины. Оскорбившись, жена Бажена опаивает Савву любовным зельем и одновременно демонстрирует ему свою неприязнь («нимало приветство являше к нему»), а затем, оклеветав юношу перед мужем, добивается изгнания его из дома. Савва страдает от разлуки с приворожившей его женщиной, так что от «великия туги» начинает «красота лица его увядати и плоть его истончяватися» (он похудел, осунулся).
Как-то Савва в унынии и скорби отправился «за град» и подумал, что если бы дьявол или человек помогли бы ему вернуть расположение женщины, то он бы «послужил дьяволу».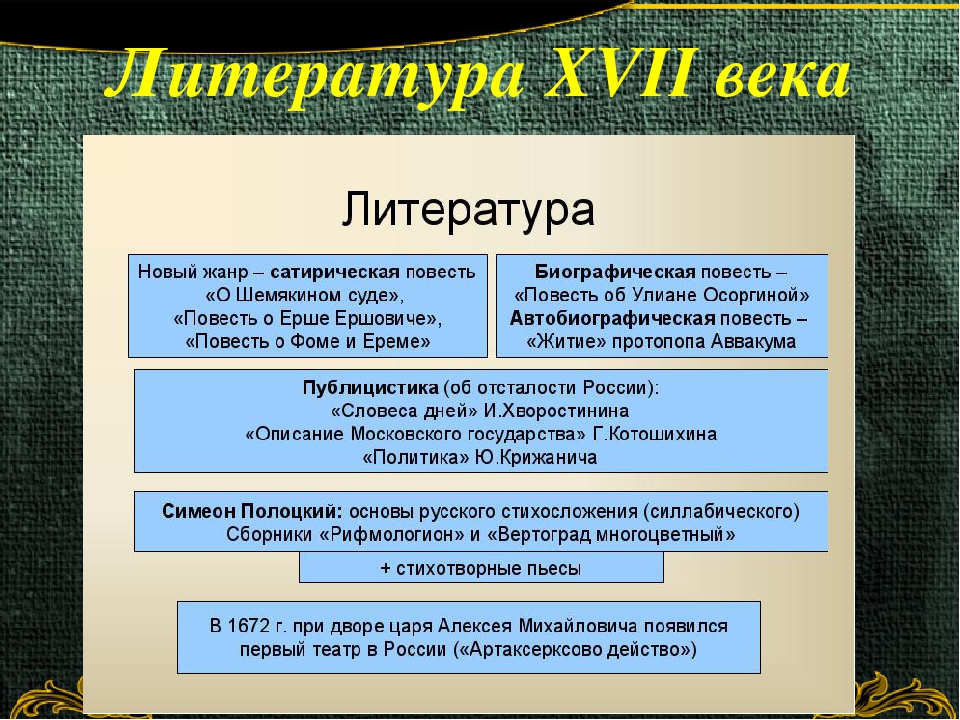 И тут же Савву окликает по имени неизвестный хорошо одетый юноша. Автор спешит предупредить, что это «супостат дьявол», но Савва ничего не подозревает и верит встреченному, что тот его родственник и земляк, а в Орле находится «ради конския покупки». Бес уговаривает Савву дать ему некое «рукописание мало», обещая за это, что вернет ему любовь жены Бажена. Обрадованный (и все еще ничего не подозревающий) Савва соглашается, бес достает из кармана чернила и «хартию» и диктует юноше (который еще «несовершенно умеяше писати») «богоотметное писание».
И тут же Савву окликает по имени неизвестный хорошо одетый юноша. Автор спешит предупредить, что это «супостат дьявол», но Савва ничего не подозревает и верит встреченному, что тот его родственник и земляк, а в Орле находится «ради конския покупки». Бес уговаривает Савву дать ему некое «рукописание мало», обещая за это, что вернет ему любовь жены Бажена. Обрадованный (и все еще ничего не подозревающий) Савва соглашается, бес достает из кармана чернила и «хартию» и диктует юноше (который еще «несовершенно умеяше писати») «богоотметное писание».
Савва со своим «названным братом» — бесом возвращается в город. Юношу радостно, как будто ничего не случилось, встречает и приглашает к себе в дом Бажен, ему снова благоволит жена Бажена. Савва вновь поселяется у них и предается, как и прежде, пьянству и разврату.
Автор постоянно как бы поддразнивает читателя, изображая ситуации, в которых Савва должен был бы догадаться, кто есть в действительности его «названный брат». Бес признается Савве, что он сын царя, и ведет Савву в свое царство.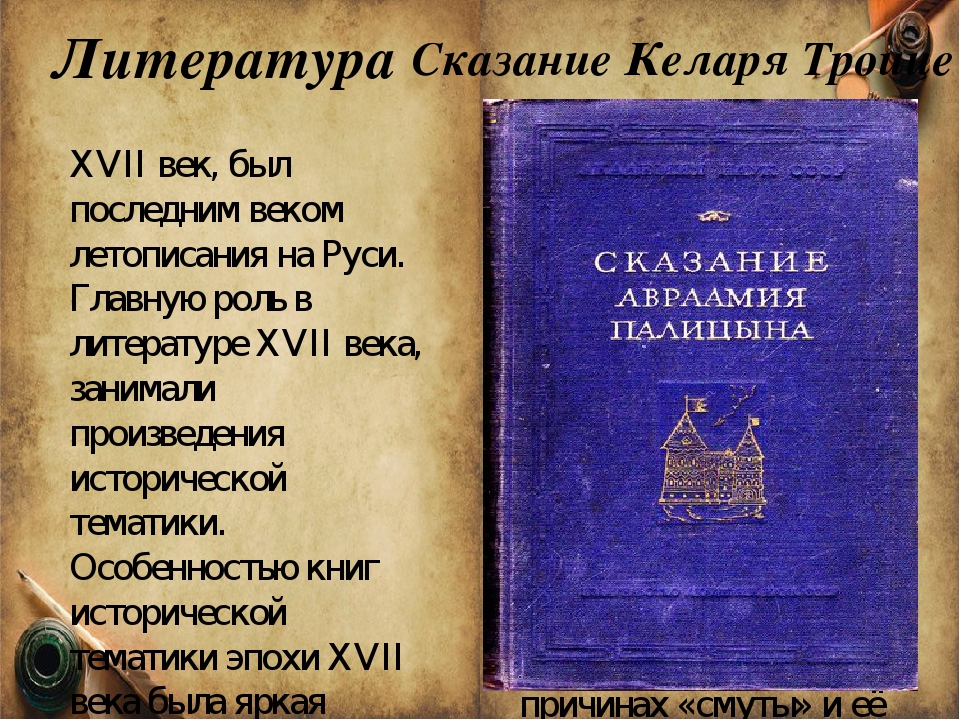 «Оле безумие отрока! — восклицает автор. — Ведый бо (знал же), яко никоторое царство прилежит Московскому государству, но все обладаема бе царем Московским». Но Савва не догадывается. Он не понимает, что попал в царство сатаны и тогда, когда с удивлением видит у престола «князя тьмы» «множество юнош крылатых стоящих» с синими, красными и черными лицами. Он, правда, спрашивает о них беса, но простодушно удовлетворяется его объяснением, что царю, отцу его, «мнози языци служат… индеи и перси и инии мнози». Не смущают Савву слова нищего, предупреждающего его, что он ходит с бесом, ни сказочные передвижения их из города в город, когда они покидают по настоянию беса Орел: туда должен приехать отец Саввы, узнавший о его непотребной жизни.
«Оле безумие отрока! — восклицает автор. — Ведый бо (знал же), яко никоторое царство прилежит Московскому государству, но все обладаема бе царем Московским». Но Савва не догадывается. Он не понимает, что попал в царство сатаны и тогда, когда с удивлением видит у престола «князя тьмы» «множество юнош крылатых стоящих» с синими, красными и черными лицами. Он, правда, спрашивает о них беса, но простодушно удовлетворяется его объяснением, что царю, отцу его, «мнози языци служат… индеи и перси и инии мнози». Не смущают Савву слова нищего, предупреждающего его, что он ходит с бесом, ни сказочные передвижения их из города в город, когда они покидают по настоянию беса Орел: туда должен приехать отец Саввы, узнавший о его непотребной жизни.
Савву ждут еще многие приключения. Он становится солдатом, с помощью беса совершает подвиги (в исторически достоверной войне за Смоленск в 1632 г.): где шли «Савва з братом своим… тамо поляки от них невозвратно бежаху, тыл показующе, бесчисленно бо много поляков побивающе, сами же ни от кого вредими бяху».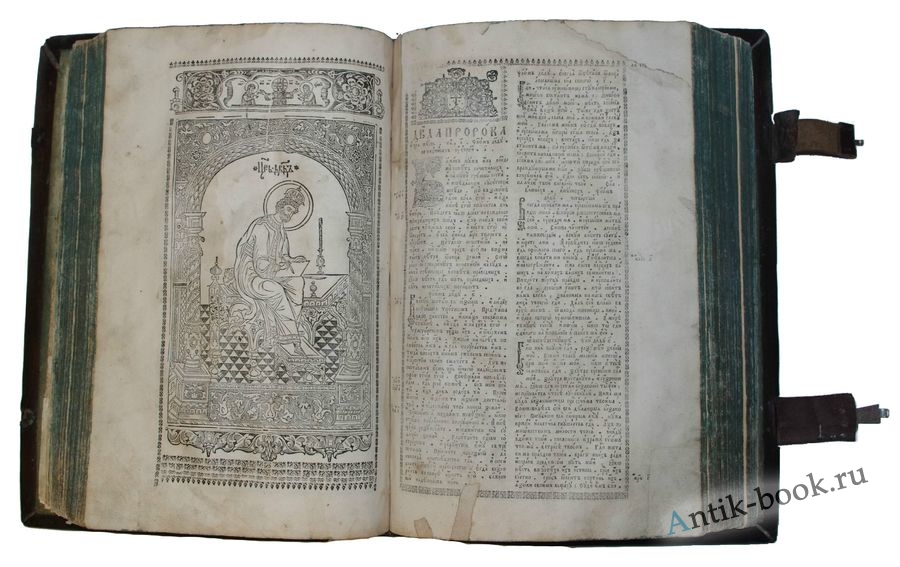
Но расплата за служение дьяволу неизбежна. Живя в Москве, в доме некоего сотника, Савва тяжело заболевает. Жена сотника убеждает Савву исповедаться. Но едва священник и Савва остаются наедине, как в комнате появляется толпа бесов, и среди них «мнимый его брат», теперь уже в своем истинном — «зверовидном» облике. Он «ярится» на Савву и, скрежеща зубами, показывает ему «богоотметное писание». После исповеди Савве становится еще хуже: бес мучает его, «ово о стену бия, ово о помост одра его пометая, ово храплением и пеною давляше…»
Сотник сообщает о болезни Саввы самому царю, и тот приказывает стоять у постели его своим караульщикам, чтобы больной, «от онаго бесовскаго мучения обезумев», не покончил с собой. Но во сне Савве является богородица и обещает спасти его, если Савва согласится постричься в монахи. По просьбе больного его приносят к стене собора Казанской богоматери. С неба раздается глас, «яко бы гром велий возгреме: «Савво востани! Что бо медлиши?» Из-под церковного свода падает «заглаженное» (без текста) «богоотметное писание». Савва, вскочив, словно «никогда же болев», бежит в церковь и молится перед иконой богородицы.
Савва, вскочив, словно «никогда же болев», бежит в церковь и молится перед иконой богородицы.
Раздав все свое имущество нищим, он постригается в Чудовом монастыре, где прожил еще «лета довольна» «в посте и молитвах».
Основа сюжета (его фабула) традиционная. В качестве аналогии приводят фрагмент из греческого «Жития Василия Великого». Там повествуется, как, полюбив дочь господина, отрок-слуга продает свою душу дьяволу, за что бесы разжигают в девушке ответную страсть. Молодые люди женятся. Но жена замечает, что супруг ее не ходит в церковь, не причащается, и, расспросив его, узнает о «сделке» с дьяволом. Женщина обращается за заступничеством к святому Василию, и тот, не без борьбы, вырывает отступника из рук бесов: данное им «рукописание» возвращается ему же в руки.
В «Повести о Савве Грудцыне» — модификация этого сюжета. При этом сюжет оказался дополненным множеством лишних для первоначальной сюжетной концепции, но чрезвычайно интересных для читателя моментов; в этой сюжетной занимательности, в обилии подробностей, иногда совершенно бытовых, а иногда нарочито фантастических, обнаруживаются черты новых литературных вкусов.
Но в повести еще ощущаются черты старины: у героев нет характеров, их речь (за исключением речи беса) лишена индивидуальности, язык повести изобилует традиционными книжными оборотами, как например: «Савва же, егда услыша от Бажена таковыя глаголы, неизреченною радостию возрадовался и скоро потече в дом Бажена Второго» или: «узрев Савва некоею престарела нища мужа стояща, рубищами гнусными зело одеянна и зряща на Савву прилежно и велми плачюща. Савва же отлучися мало от беса и притече ко старцу оному, хотя уведати вины плача его» и т. д.
При этом не следует думать, что таков был стиль всех памятников официальной литературы: вспомним изящное описание сокола, чистящего свои перья; это лишь свидетельство сосуществования разных традиций и тенденций, разных стилевых манер в литературе XVII в.
Но наиболее явно новые литературные веяния проявились в демократической литературе, создававшейся и читавшейся в городском посаде и в деревне, в среде мелких купцов, ремесленников, низшего духовенства и приказных, в крестьянской среде.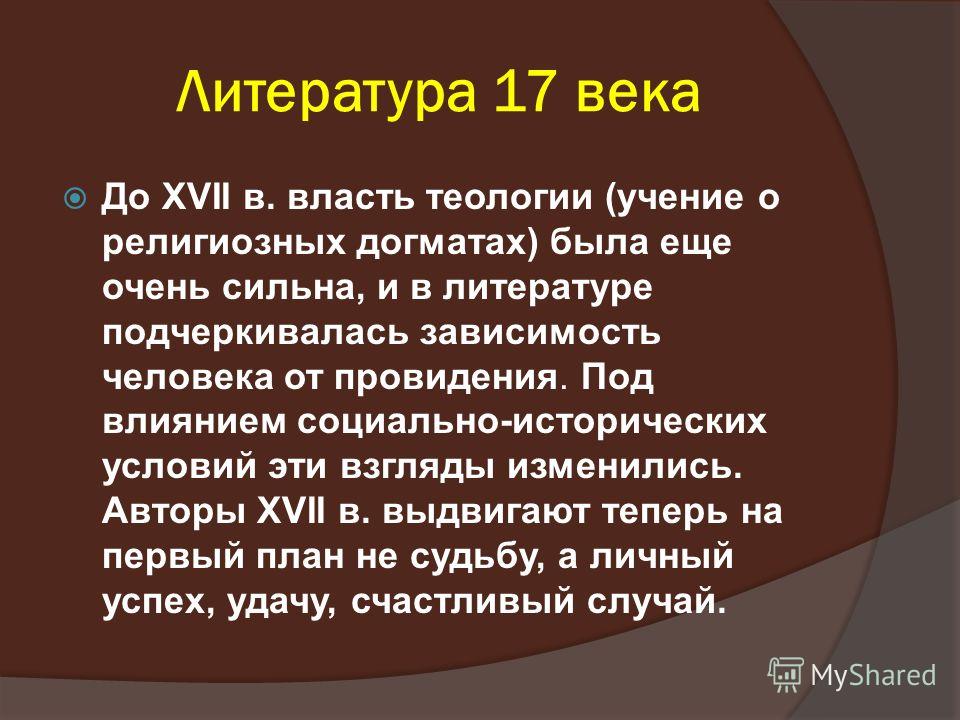 Каковы же основные художественные завоевания этой демократической литературы?
Каковы же основные художественные завоевания этой демократической литературы?
Прежде всего — решительный отказ от историзма, самого основного и определяющего принципа древнерусской литературы. В демократической литературе появляется новый герой. Это не историческое лицо, а «бытовая личность», человек, никому не известный, судьба которого интересна лишь в чисто бытовом плане. Демократическая литература решительно освободилась от религиозной опеки: религиозные сюжетные мотивы, даже в том урезанном и деформированном виде, в каком они встречаются в «Повести о Савве Грудцыне» или в «Повести о Тверском Отроче монастыре», в ней совершенно отсутствуют, а в произведениях демократической сатиры, таких, например, как «Калязинская челобитная» или «Повесть о бражнике», религиозное ханжество, церковный или монастырский быт даже оказываются объектом беспощадного осмеяния.
Демократическая литература отстояла право на вымысел. Важным шагом на этом пути оказывается безымянность некоторых ее героев. На первый взгляд, это как будто возврат к принципу абстрагированности. Но только на первый взгляд. Так, в «Повести о купце Карпе Сутулове» рассказывается о том, что жена Карпа Татьяна, поиздержавшаяся за время трехлетнего отсутствия мужа, обращается с просьбой к купцу Афанасию Бердову ссудить ее деньгами. Тот не отказывается ей помочь, однако просит за это любовное свидание. Татьяна решает посоветоваться со своим духовным отцом. Тот предлагает ей большую сумму, однако на тех же условиях. Еще большую сумму сулит Татьяне архиепископ, обещая даже отпустить ей грехи измены супругу. Тогда хитрая женщина назначает свидание всем трем поклонникам в один день, друг за другом. Пугая их мнимым возвращением мужа (это стучит очередной поклонник), она сажает поклонников в сундуки и передает эти сундуки воеводе. Воевода берет с незадачливых любовников большой выкуп, который делит с Татьяной, он славит мудрость и целомудрие женщины.
На первый взгляд, это как будто возврат к принципу абстрагированности. Но только на первый взгляд. Так, в «Повести о купце Карпе Сутулове» рассказывается о том, что жена Карпа Татьяна, поиздержавшаяся за время трехлетнего отсутствия мужа, обращается с просьбой к купцу Афанасию Бердову ссудить ее деньгами. Тот не отказывается ей помочь, однако просит за это любовное свидание. Татьяна решает посоветоваться со своим духовным отцом. Тот предлагает ей большую сумму, однако на тех же условиях. Еще большую сумму сулит Татьяне архиепископ, обещая даже отпустить ей грехи измены супругу. Тогда хитрая женщина назначает свидание всем трем поклонникам в один день, друг за другом. Пугая их мнимым возвращением мужа (это стучит очередной поклонник), она сажает поклонников в сундуки и передает эти сундуки воеводе. Воевода берет с незадачливых любовников большой выкуп, который делит с Татьяной, он славит мудрость и целомудрие женщины.
Это типично новеллистический сюжет и достаточно искусственный (троекратно повторенная сходная ситуация, все возрастающие суммы даров, которые обещает Татьяне каждый из поклонников, и т.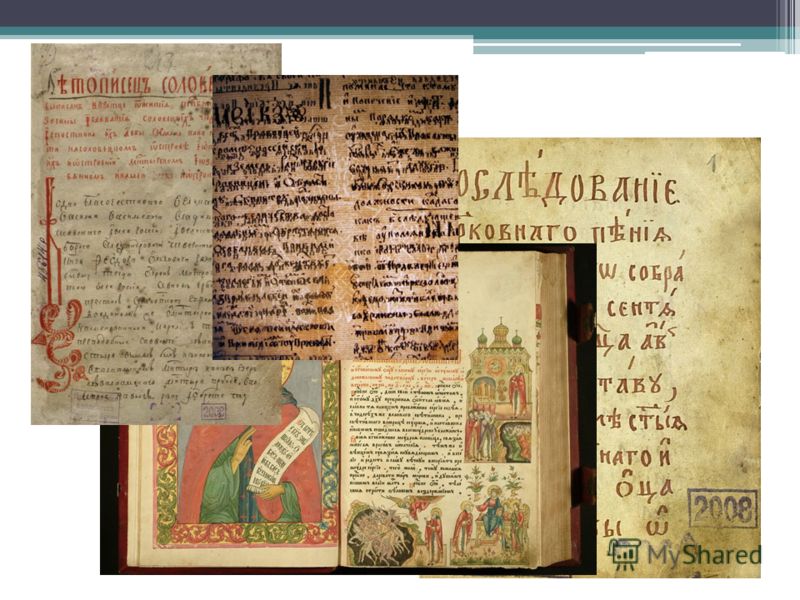 д.), но у основных героев повести есть имена, так что достаточно простодушный читатель мог все же допускать, что эта история имела место в действительности.
д.), но у основных героев повести есть имена, так что достаточно простодушный читатель мог все же допускать, что эта история имела место в действительности.
В «Повести о Шемякином суде» действуют уже два безымянных брата — бедный и богатый, в «Повести о Горе-Злочастии» — также безымянный «молодец», а в сатирической «Повести о Ерше Ершовиче» персонажи — рыбы: судные мужики Судок да Щука-трепетуха, воевода Сом и другие.
Во всех этих случаях нет и намека на историзм, вымышленность сюжета открыто признается.
Право на вымышленное имя облегчает и создание вымышленного сюжета. Такой сюжет в демократической литературе является к тому же, как правило, бытовым сюжетом: «бытовая личность» интересна своей собственной бытовой судьбой, занимательностью тех бытовых ситуаций, в которых она оказывается.
«Повесть о Шемякином суде». Интересной иллюстрацией этой мысли может послужить «Повесть о Шемякином суде».
В «некоих местах» жили два брата — богатый и бедный. Богатый постоянно ссужал бедняка, но тот по-прежнему жил скудно. Как-то бедняк попросил лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута, попрекнув брата: «И того у тебя нет, что своего хомута». Бедный привязал дровни к хвосту лошади. Въезжая во двор, он не открыл подворотню, лошадь зацепилась дровнями и оторвала себе хвост. Богатый, увидев искалеченную лошадь, отправился в город жаловаться на брата судье Шемяке.
Богатый постоянно ссужал бедняка, но тот по-прежнему жил скудно. Как-то бедняк попросил лошадь, чтобы привезти из лесу дров. Богатый лошадь дал, но не дал хомута, попрекнув брата: «И того у тебя нет, что своего хомута». Бедный привязал дровни к хвосту лошади. Въезжая во двор, он не открыл подворотню, лошадь зацепилась дровнями и оторвала себе хвост. Богатый, увидев искалеченную лошадь, отправился в город жаловаться на брата судье Шемяке.
«Убогий» отправился вместе с братом. По дороге они заночевали в доме попа. Бедный с завистью смотрел с полатей, как брат его ужинает с попом, загляделся и упал с полатей на зыбку (колыбель), в которой спал поповский сын, и задавил ребенка насмерть. Теперь к судье отправились уже двое истцов — богатый брат и поп. В городе им пришлось идти через мост. Бедняк в отчаянии решил расстаться с жизнью, бросился с моста в ров, но опять же случайно упал на старика, которого некий горожанин вез мыть в баню, и «удави» его. К судье явились теперь уже три истца.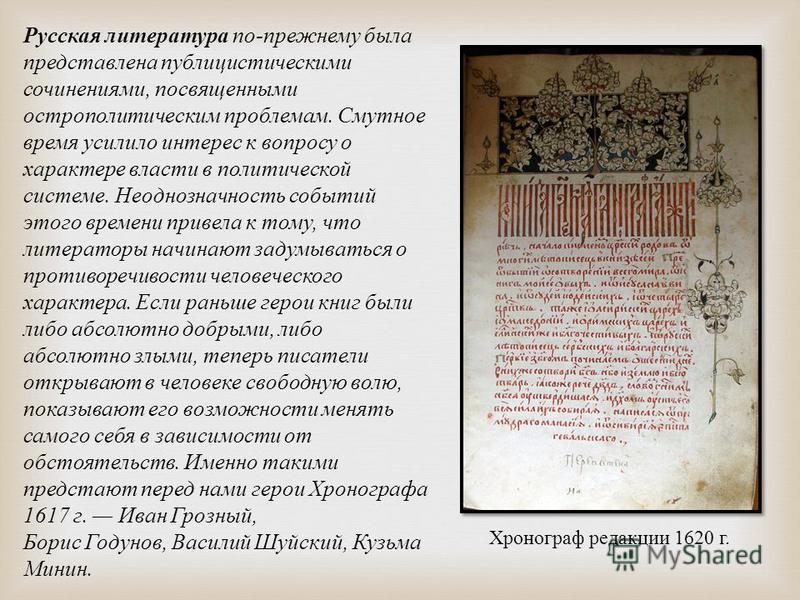 Бедняк, не ведая, «как ему напастей избыта и судии чтоб дата», взял камень и, завернув его в «плат», положил в шапку. При разборе каждого из дел он исподтишка показывал судье «узелок» с камнем.
Бедняк, не ведая, «как ему напастей избыта и судии чтоб дата», взял камень и, завернув его в «плат», положил в шапку. При разборе каждого из дел он исподтишка показывал судье «узелок» с камнем.
Шемяка, рассчитывая, что ответчик сулит ему «узел злата», во всех трех случаях решил дело в его пользу. Но когда его посыльный спросил у бедняка: «Дай-де то, что ты из шапки судне казал в узлах», тот отвечает, что в узле у него был завернут камень, которым он хотел судью «ушибити». Узнав об этом, судья, однако, не серчает, а радуется: «ак бы я не по нем судил, и он бы меня ушиб».
Бедняк из рассмотренной повести — своеобразный тип героя плутовской новеллы. Строго говоря, он вовсе не плут, а типичный неудачник: бедняк едва не покончил с собой накануне суда и камень-то показывал судье, вовсе не желая его обмануть и перехитрить, а лишь рассчитывая напугать. Неверно рассматривать «Повесть о Шемякином суде» как сатиру на судопроизводство: хотя мотив насмешки над судьей, оправдывающим виновного в расчете на взятку, в повести присутствует, в основе сюжета — забавный рассказ о злоключениях героя, и именно неправедность суда приводит конфликт к благополучному разрешению.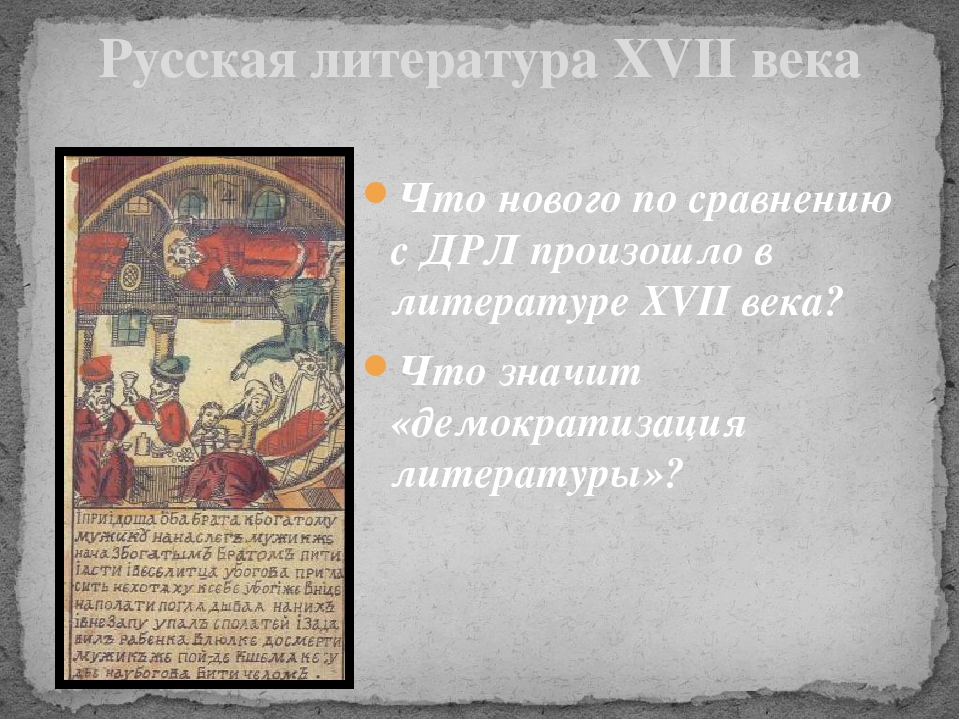
Текст «Повести о Шемякином суде». Рукопись XVIII в.
«Повесть о Фроле Скобееве». Плутовская новелла XVII в. достигает своего совершенства в «Повести о Фроле Скобееве». В отличие от бедняка-неудачника «Повести о Шемякином суде», Фрол, мелкий чиновник (он площадной подьячий или ябедник, промышляющий перепиской и составлением юридических бумаг и ведением дел своих клиентов), сам настойчиво, любыми средствами устраивает свою судьбу. Он хитростью женится на дочери знатного стольника Нардина-Нащокина Аннушке и становится наследником движимого и недвижимого имущества своего тестя.
Авантюрная повесть о Фроле Скобееве интересна нам не столько похождениями героя: она знаменует собой решительный отказ от всех тех условностей в изображении характеров, поведения и передачи речи персонажей, которые так отягощали, например, занимательный сюжет «Повести о Савве Грудцыне». Здесь герои говорят не высокопарными книжными фразами и не изящными, но безликими репликами сказочных героев, а языком, свойственным людям определенного социального положения и определенных характеров. Приведем небольшой фрагмент из этой повести. Фрол приезжает со своей женой Аннушкой в дом тестя. После гневных попреков дочери и зятю Нардин-Нащокин садится с ними обедать, наказывая слугам отвечать всем посетителям: «Временя такого нет, чтобы видеть столника нашего, для того зь зятем своим, с вором и плутом Фролкою, кушает». Уже в этой фразе расставлены необходимые психологические акценты.
Приведем небольшой фрагмент из этой повести. Фрол приезжает со своей женой Аннушкой в дом тестя. После гневных попреков дочери и зятю Нардин-Нащокин садится с ними обедать, наказывая слугам отвечать всем посетителям: «Временя такого нет, чтобы видеть столника нашего, для того зь зятем своим, с вором и плутом Фролкою, кушает». Уже в этой фразе расставлены необходимые психологические акценты.
После обеда между стольником и Фролом происходит такой разговор: «Ну, плут, чем станешь жить?» — «Изволишь ты ведать обо мне, — более нечим, что ходить за приказным делам». — «Перестань, плут, ходить за ябедою! Имения имеется, вотчина моя, в Синбирском уезде, которая по переписи состоит в 300-х дворех. Справь, плут, за собою и живи постоянно». И Фрол Скобеев отдал поклон и з женою своею Аннушкою и пренося пред ним благодарение. «Ну, плут, не кланейся; поди сам справляй за себя», — нетерпеливо заканчивает беседу стольник.
Живость и естественность диалога и всей сцены несомненны. Но в повести есть и еще одна примечательная для литературного развития XVII в.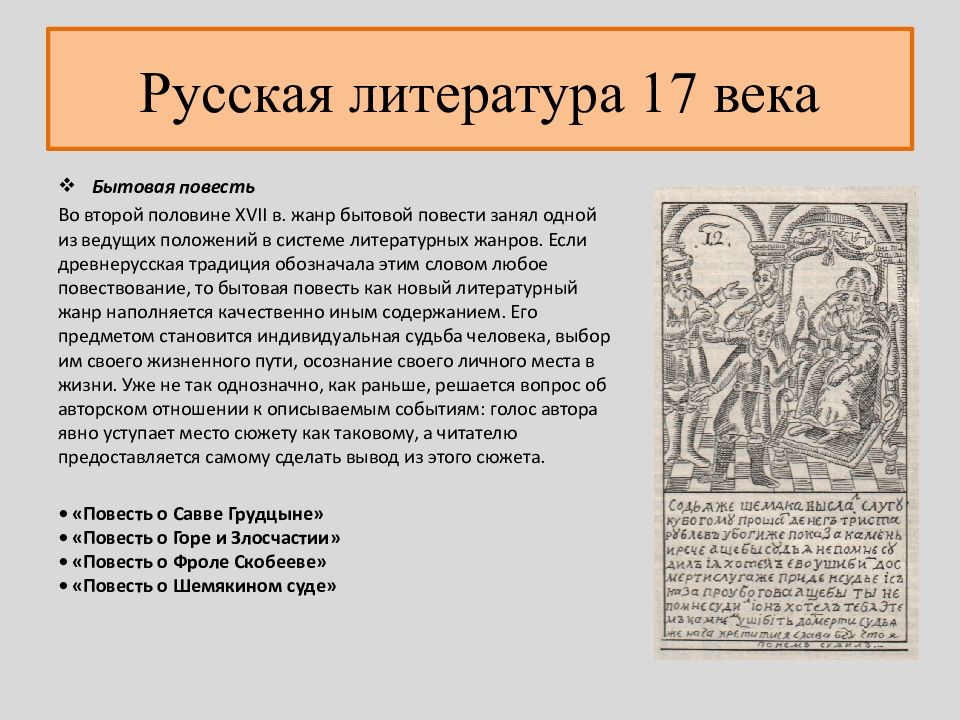 деталь: она совершенно лишена дидактизма. Читатель сам должен решить, с кем останутся его симпатии: с плутом ли Фролом или с уязвленным в своей гордости, обманутым собственной дочерью стольником.
деталь: она совершенно лишена дидактизма. Читатель сам должен решить, с кем останутся его симпатии: с плутом ли Фролом или с уязвленным в своей гордости, обманутым собственной дочерью стольником.
«Повесть о Фроле Скобееве», написанная, видимо, в самом начале XVIII в., явилась своеобразным итогом развития демократической новеллы.
Силлабическая поэзия XVII в. Симеон Полоцкий. XVII век стал первым веком русской книжной поэзии. Обращение к новой области словесного искусства было чрезвычайно интенсивным, интенсивным настолько, что к концу столетия обилие поэтов и обилие стихотворной продукции приводит даже к некоторой девальвации стихотворства. Создалось представление, что в «мерные строки» можно облечь любую тему, любой предмет… В сознании русских стихотворцев второй половины XVII в. не было противоположения поэзии и стихотворства».[107] В начале следующего века Феофан Прокопович специально подчеркнет, что функция поэзии «искусством изображать человеческие действия и художественно (курсив наш. — О. Т.) изъяснять их для назидания в жизни».[108]
— О. Т.) изъяснять их для назидания в жизни».[108]
Широкое распространение еще в XVI-XVII вв. получили духовные стихи, в которых разрабатывались по преимуществу темы человеческой греховности, необходимости покаяния, печали от нашествия поганых и т. д. Но духовные стихи были тесно связаны с музыкой: они распевались на «гласы» богослужебных певческих книг, и тексты их обычно встречаются именно в этих рукописях.
Книжная поэзия в собственном смысле этого слова, то есть независимый от мелодии декламационный стих, появляется только в XVII в. Исследователь древнерусской поэзии А. М. Панченко полагает, что рождение стихотворства было обусловлено двумя важнейшими факторами. Во-первых, в развитии стихотворства сыграло роль усилившееся в это время украинское и польское культурное влияние: и на Украине, и в Польше вирши имели широкое распространение уже в XVI в., «польские руководства «хорошего тона» считали искусство сочинять стихи одной из шляхетских добродетелей». Второй фактор — «это внутренняя московская потребность, объясняемая тем, что в это время фольклор стал уходить из города и поэтическое чувство горожан искало удовлетворения в книге — как в высокой силлабической поэзии, так и в попадавшей по необходимости в письменность народной — в эпосе, сатире, лирической песне, духовном стихе».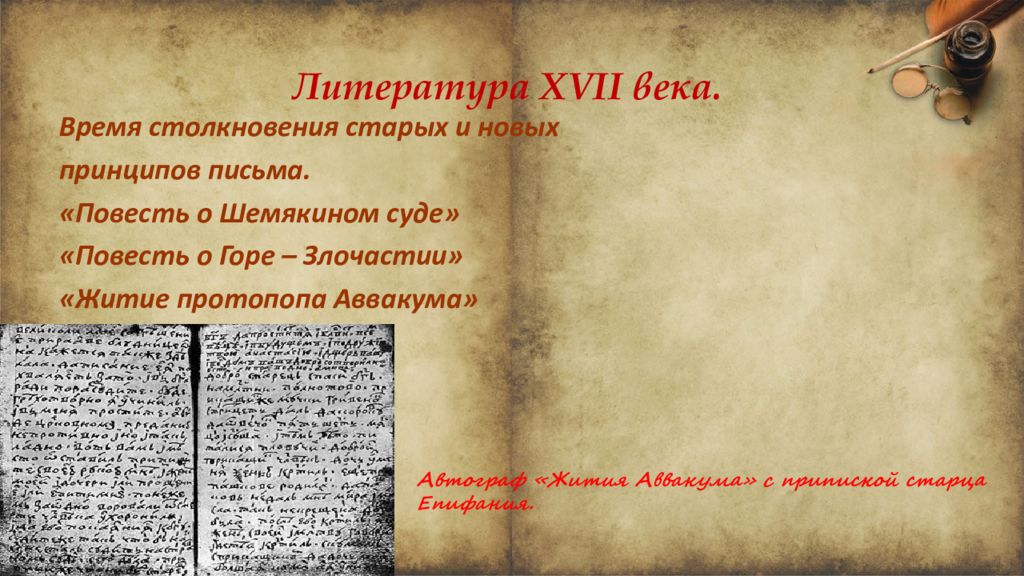 [109]
[109]
Исчезновение фольклора из города в XVII в. было вызвано жестоким преследованием скоморохов: специальные указы предписывают «бить кнутом по торгам» тех, кто упорствует и не оставляет своего ремесла, запрещают держать дома музыкальные инструменты и
Русская литература 17 века. «Век перехода», новые явления в литературе.
Переводная литература представлена большим количеством книг западно-европейского происхождения, появившихся в переводе в основном с польского языка. Раньше переводили только богословские книги, а теперь начали переводить и светские. Появилось много переводной научной литературы (по географии, медицине, охоте, военному делу, сельскому хозяйству). Начиная с 70-х годов 17 века появляется рыцарский и авантюрный роман. Сюжет, как правило, построен по одной схеме: герои встречаются, влюбляются, обстоятельства их разлучают, они преодолевают препятствия и соединяются браком. Приключения любовников дают канву древнерусской литературыя сложной и запутанной интриги, в которой важную роль играют неожиданные встречи, роковые ошибки и т. д.
д.
Эти веяния проникали на Русь двумя путями – из так называемой Немецкой слободы, района в Москве, где жили приезжие иноземцы с семьями, и из Украины, влияние которой в то время становится значительным. Проводником становится книга. Переяславская рада сыграла важную роль в восстановлении и дальнейшем укреплении политических, экономических и культурных связей русского и украинского народов. С 60-х годов в Москву стали приезжать украинские и белорусские культурные деятели. В 1660 приехал Симеон Полоцкий с учениками. В Москве оказывали покровительство культурным деятелям Украины и потому, что они помогали правительству в разрешении политических задач. Размеры культурного общения с Украиной и Белоруссией вызвали в консервативных кругах московского общества сопротивление, во главе которого стал патриарх Иоаким.
Развиваются новые жанры: стихотворные, школьная драма, рыцарский роман. Старая литературная традиция отодвигается в сторону, происходит замещение одного литературного ряда другим. Путь от жития к повести (например, «Повесть о Савве Грудцыне»), путь формирования повествовательных жанров в низовой, народной культуре. Эти народные жанры вытесняют книжную традицию.
Путь от жития к повести (например, «Повесть о Савве Грудцыне»), путь формирования повествовательных жанров в низовой, народной культуре. Эти народные жанры вытесняют книжную традицию.
Нет генетической связи с предшествующей традицией, все ново: и поэтическая тема, и ее трактовка, и стилистический строй, и даже языка – не старославянский, а живой, русский. Все непосредственно от фольклора.
Своеобразие древнерусской литературы в том, что это литература высоких идеалов, образцов поведения. Древнерусская литература обладала силой исключительного воздействия на жизнь, ее отличают воинствующий дидактизм, преобразовательный пафос, деятельное служение жизни.
Историческая ситуация:
1. 1601-1603 – голод
2. 1603 – бунт
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
3. 1605-1606 – Лжедмитрий 1
4. 1606-1607 – восстание Болотникова
5. 1607-1612 – Лжедмитрий 2, восстания
6. 1617 – Столбовский мир , конец русско-шведской войне
7. Семибоярщина
8. Вольное казачество
9. 1637 – 42 – Азов, Азовское сидение (Казаки взяли Азов)
10. 1648 – Соляной бунт
11. 46-59 – шведская война
12. 62 – медный бунт
13. 1666 – Церковный собор ( Никон)
14. 68 – осада Соловецкого монастыря
15. 70 – Степан Разин
16. 82 – первый стрелецкий бунт
17. 98 – второй стрелецкий
18. 1700-1721 – Северная война
Новые черты:
1. Новое общественное сознание вливается в литературу.
2. Расширение читательского круга: посадники, низшее духовенство, купцы
3.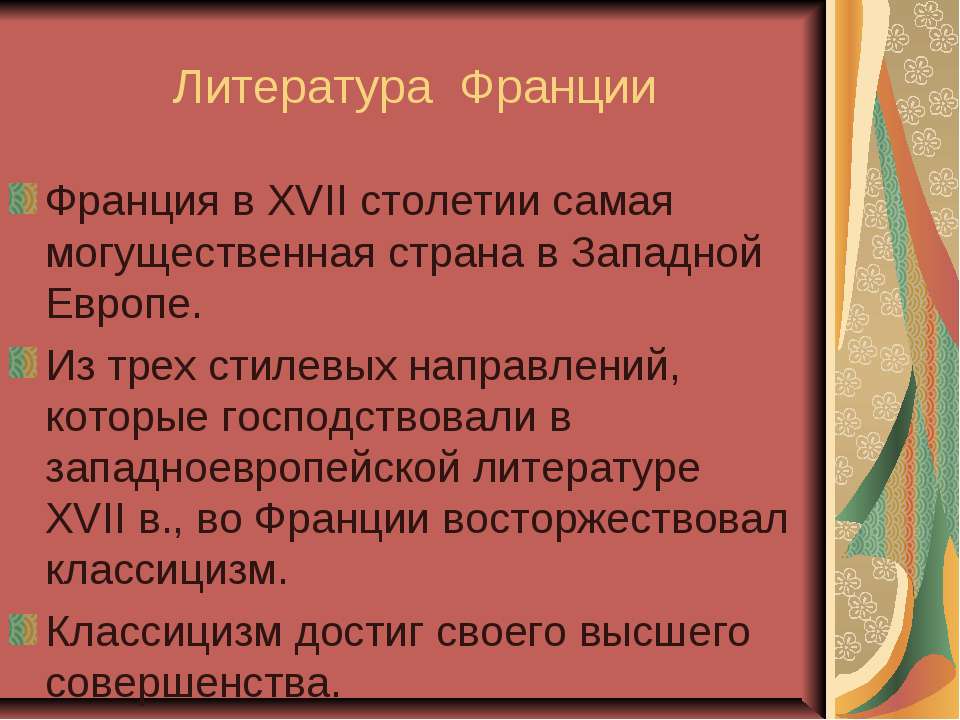 Меняется вид книги: тетрадочки, скоропись, т.к. эти тетради берут с собой, описывая поездки и переписывая тексты, сокращение – демократизация вида
Меняется вид книги: тетрадочки, скоропись, т.к. эти тетради берут с собой, описывая поездки и переписывая тексты, сокращение – демократизация вида
4. В высокую литературу проникают фольклор и секуляризация
5. Переводные повести , любовная интрига, рыцарские романы. Ослабевает поучительная нота. Переход от полезного чтения к собственно литературе (беллетристика).
Историко – литературное значение:
1. Век, в котором архаические традиции смешиваются с новыми
2. Укоренившиеся жанры уживаются с новыми. Силлабическое сложение
3. Театр, драматургия.
4. Пародийная литература в низшей среде
5. Придворная и демократическая литература ( включая новые слои населения, помимо феодалов)
6. Появляются профессиональные авторы: Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев – возникает чувство авторского интереса. Растет индивидуальная точка зрения на событие и возникает ценность человеческой личности не зависимо от социального положения.
7. Включение русской литературы в Европейское течение (от Средневекового типа)
8. Новая лит система
9. 17 век – век постепенного перехода от средневековой литературы к новой
10. Литература имеет функцию возрождения.
Развитие литературных явлений не отличалось стройностью и ясностью. Литра пыталась вырваться из деловой формы.
Изменения в литературе:
1. Изменения в жанровой системе : драма, новелла, сатира и др (новый жанр — ведение, записки).
2. Рост авторского начала – появление нового героя. Он не знает, что ему делать во время трудностей. Быт входит в литературу (индивидуализация быта).
3. Расширение социальной тематики.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимостьЛитература «переходного века» (XVII столетие)
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. П — С. СПб., 1999. Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.
Вып. 3 (XVII в.). Ч. 3. П — С. СПб., 1999. Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. СПб., 1995.
Тексты
Александрия. М.–Л., 1965. (Сер.: Лит. памятники.)
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. XI–XII вв. СПб., 1997.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 2. XI–XII вв. СПб., 1997.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 3. XI–XII вв. СПб., 1997.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 4. XII век. СПб., 1997.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 5. XIII век. СПб., 1997.
Библиотека литературы Древней Руси. Т. 6. XIV — середина XV в. СПб., 1999. Виршевая поэзия (первая половина XVII века). М., 1989.
Воинские повести Древней Руси. М.–Л., 1949 (Сер.: Лит. памятники.) Древнерусская притча / Сост. Н. И. Прокофьев, Л. И. Алехина. М., 1991. Древнерусские предания XI–XVI вв. / Под ред. В. В. Кускова. М., 1982.
Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие сочинения / Ред.
Н. К. Гудзий. М., 1960.
Житие Аввакума и другие его сочинения / Сост.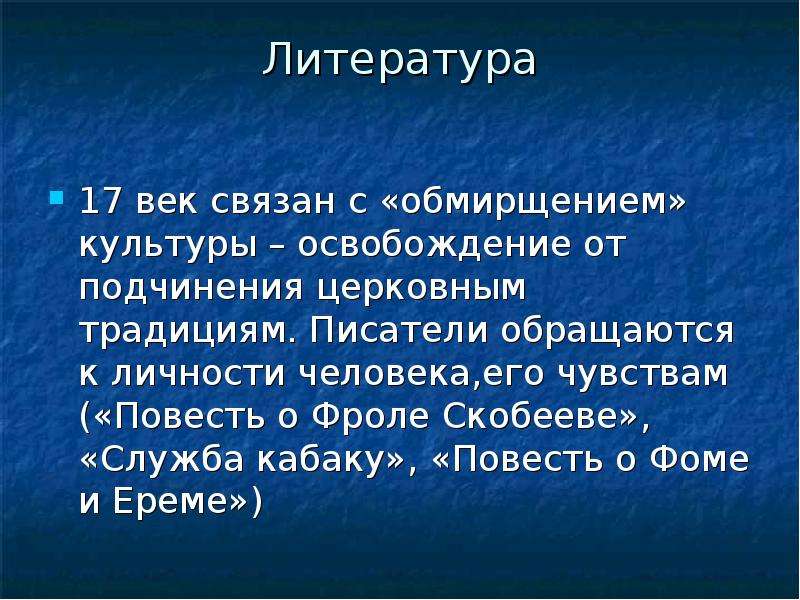 , вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991.
, вступ. ст. и коммент. А. Н. Робинсона. М., 1991.
Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). М., 1969. Киево-Печерский патерик // Древнерусские патерики: Киево-Печерский патерик. Воло-
коламский патерик / Изд. подг. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999.
Книга хожений: Записки русских путешественников XI–XV вв. / Под ред Н. И. Прокофьева. М., 1984.
Красноречие Древней Руси (XI–XVII вв.) / Вступ. ст., сост. и коммент. Т. В. Черторицкой. М., 1987.
Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980.
Памятники литературы Древней Руси: XIII век. М., 1981.
Памятники литературы Древней Руси: XIV — середина XV века. М., 1981. Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XV века. М., 1982. Памятники литературы Древней Руси: Конец XV — первая половина XVI века. М., 1982. Памятники литературы Древней Руси: Середина XVI века. М., 1985.
Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века. М., 1986. Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI — первая треть XVII века.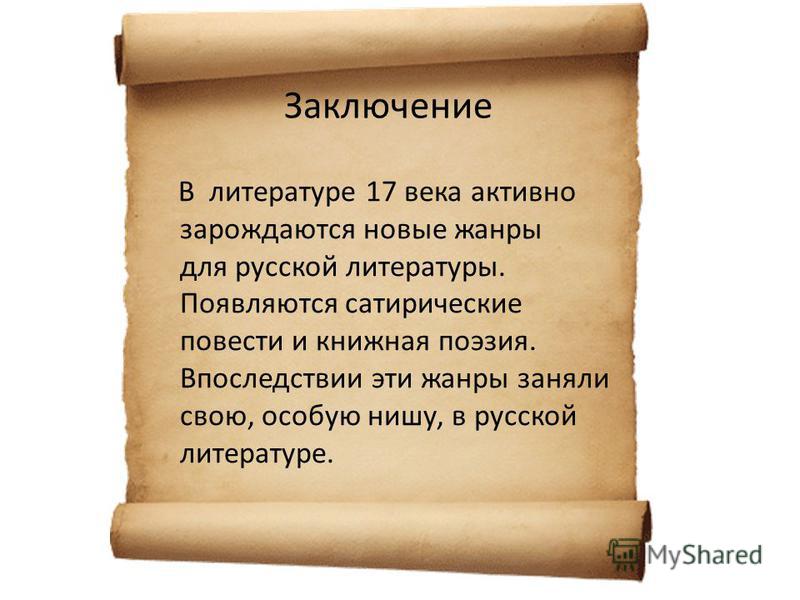 М., 1987. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга первая. М., 1988. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая. М., 1989. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга третья. М., 1994.
М., 1987. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга первая. М., 1988. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга вторая. М., 1989. Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Книга третья. М., 1994.
Памятники отреченной русской литературы: В 2 т. / Собр. и изд. Н. Тихонравовым. М., 1863.
Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Л., 1979. (Сер.: Лит. памятники.) Повесть временных лет: В 2 ч. М.– Л., 1950. (Сер.: Лит. памятники.)
Повесть о Горе-Злочастии / Изд. подг. Д. С. Лихачев и Е. И. Ванеева Л., 1984. (Сер.: Лит. памятники.)
Повесть о Петре и Февронии / Подг. текста и исследование Р. П. Дмитриевой. Л., 1979. Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Первые пьесы русско-
го театра. М., 1972.
Ранняя русская драматургия (XVII — первая половина XVIII в.): Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII в. М., 1972.
Русская бытовая повесть XV–XVII вв. / Сост. А. Н. Ужанков. М., 1991.
Русская | демократическая сатира XVII в. | статьи и комментарии |
В. П. Адриановой-Перетц. 2-е изд., доп. М., 1977 (Сер.: Лит. памятники.) | ||
Русская | силлабическая поэзия XVII–XVIII вв. / Вступ. ст., | подг. текста и коммент. |
А. М. Панченко. Л., 1970. |
| |
Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания: Исследование и тексты. М., 1963.
Русская действительность «бунташного» XVII столетия, активное участие в восстаниях посадского населения явились той почвой, на которой возникла демократическая сатирическая повесть второй половины XVII века. Социальная острота, антифеодальная направленность литературной сатиры сближали ее с устно-поэтической сатирой: сатирическими сказками о животных, сказками о неправедных судьях и антипоповскими сказками. Социальный протест простив «неправедных судей», взяточничества и крючкотворства, судебной волокиты звучит в сатирических повестях о Шемякином суде и о Ерше Ершовиче. Растущему расслоению русского общества в XVII в. соответствовало и расслоение культуры. На одном ее полюсе возникают придворная поэзия и придворный театр, ориентированные на европейское барокко, на другом появляется оппозиционная идеологически и эстетически письменность городского плебса. Эту анонимную и близкую к фольклору посадскую струю принято обозначать термином «демократическая сатира». Если приложить к этому литературному слою общепринятые понятия о сатире (сатира всегда нечто отрицает, всегда обличает лица, институты, явления, будь то серьезно, как в античной культуре, либо смеясь, как в культуре нового времени), то окажется, что некоторые входящие в него произведения этим понятиям действительно соответствуют. Однако конкретный объект сатиры далеко не всегда очевиден. «Повесть о Фоме и Ереме» рассказывает о двух братьях-неудачниках. Лихо им жить на белом свете, ни в чем нет им удачи. Их гонят из церкви, гонят с пира: «Ерема кричит, а Фома верещит». Нелепо они жили, нелепо и умерли: «Ерема упал в воду, Фома на дно». Один из списков повести кончается обличительным возгласом: «Обоим дуракам упрямым смех и позор!». Можно ли принимать за чистую монету это обвинение в «дурости»? Разумеется, нельзя. Ведь быть неудачником – не порок, ни в каких грехах автор Фому и Ерему не обвиняет, они вызывают сочувствие, не возбуждая негодования. Православие считало смех греховным. Еще Иоанн Златоуст заметил, что в Евангелии Христос никогда не смеется. В XVII – начале XVIII веков, в эпоху расцвета демократической сатиры, официальная культура отрицала смех. Димитрий Ростовский прямо предписывал пастве: если случится в жизни очень веселая минута, не смеяться громко, а только улыбнуться, «осклабиться». О том, что в Москве существует запрет на смех и веселье, с удивлением и страхом писал единоверный путешественник XVII в. архидиакон Павел Алеппский, сын антиохийского патриарха Макария: «Сведущие люди нам говорили, что если кто желает сократить свою жизнь на пятнадцать лет, пусть едет в страну московитов и живет среди них как подвижник… Он должен упразднить шутки, смех и развязность…, ибо московиты… подсматривают за всеми, сюда приезжающими, нощно и денно, сквозь дверные щели, наблюдая, упражняются ли они непрестанно в смирении, молчании, посте или молитве, или же пьянствуют, забавляются игрой, шутят, насмехаются или бранятся… Как только заметят со стороны кого-либо большой или малый проступок, того немедленно ссылают в страну мрака, отправляя туда вместе с преступниками…, ссылают в страны Сибири…, удаленные на расстояние целых трех с половиною лет, где море-океан и где нет уже населенных мест». Запись Павла Алеппского – это, конечно, курьез, потому что культурный запрет он принял за бытовую черту, изобразив русских какими-то фанатиками серьезности. Отсюда ясно, что смех сам по себе, даже если это был, по словам И. Е. Забелина, «дурацкий смех», – выражал оппозицию официальной литературе с ее благочестивой серьезностью или благостной улыбкой. Вторжение смеха в письменность свидетельствовало о коренной перестройке русской культуры, о появлении литературного «мира навыворот», смехового антимира. Чтобы понять этот «мир навыворот», нужно уяснить, по каким законам живут его персонажи. Что касается идеалов смехового мира, то они ничуть не похожи на христианские. Здесь никто не думает о царстве небесном. «Сказание о роскошном житии и веселии» насыщено русскими бытовыми реалиями, что свидетельствует о коренной переделке гипотетического источника. Впрочем, если не источник, то аналоги «Сказания», польские и украинские, существуют. Почему православие, объявив смех и скоморошество порождением дьявола, вплоть до XVII в. не делало никаких практических шагов, чтобы их искоренить? Здесь нет ни бессилия, ни мировоззренческого противоречия. В списках «Службы кабаку» встречается комментарий, в котором сказано, что эта «антислужба» – нечто вроде лекарства: лекарство может быть горьким, но без него не выздороветь. Следовательно, кощунственный смех – не только неизбежное, но и необходимое зло, которое служит добру. Впрочем, в том же комментарии есть оговорка: тот, кто не может «пользовать себя», как лекарством, «Службой кабаку», пусть ее не читает. Древнерусский «дурацкий смех», по всей видимости, родствен смеху средневековой Европы. Осмеивался не только объект, но и субъект повествования, ирония превращалась в автоиронию, она распространялась и на читателей, и на автора, смех был направлен на самого смеющегося. Это был «смех над самим собой». В «Повести о Фоме и Ереме» герои названы «дураками упрямыми». Русская смеховая литература XVII в. Авторы смеховых произведений и не ищут конкретных объектов осмеяния. Они смеются горьким смехом, обличая и отрицая всю без исключений официальную культуру. Церковные и мирские власти утверждают, что в мире царит порядок. Фома и Ерема и их двойники не верят в это. С их точки зрения, в мире царит абсурд. В связи с этим и свою литературу они строят по законам абсурда – так, как построен «Лечебник на иноземцев». Не случайно излюбленный стилистический прием этой литературы – оксюморон и оксюморонное сочетание фраз (соединение либо противоположных по значению слов, либо предложений с противоположным смыслом). В «Повести о Куре и Лисице» в аллегорических образах русской народной сказки о животных обличает лицемерие и ханжество попов и монахов, их внутреннюю фальшь под покровом формального благочестия. Повесть подводит читателя к выводу о том, что с помощью текста «священных книг» можно оправдать любой поступок. Поскольку смеховая литература отрицает официальную, серьезную, «душеполезную», постольку она зависит от нее эстетически. Без официального противовеса нельзя понять и демократическую сатиру, которая пародирует известные и совсем не смеховые жанры. Чтобы воспринять пародию, читатель должен представлять, что́ пародируется. Поэтому в качестве образца берутся самые обиходные схемы, с которыми древнерусский человек сталкивался на каждом шагу, – судное дело, челобитная, лечебник, роспись приданому, послание, церковная служба. Вера и православие в смеховой литературе XVII в. не подвергались дискредитации. Однако недостойные служители церкви осмеивались очень часто. Автор «Службы кабаку» ставит бельцов и монахов во главу бражнических «чинов», рассказывая, как они тащат в кружало на пропой скуфьи, рясы и клобуки. В повести обличается государственная система организации пьянства через «царев кабак». Едкая сатира создается путем несоответствия торжественной формы церковных гимнов, песнопений и воспеваемым в них «царевым кабакам». Автор с иронией говорит о «новых мучениках», пострадавших от кабака. Завершает повесть житие пьяницы – страшная картина нравственного падения человека. В «Калязинской челобитной» говорится, что «образцом» для развеселых иноков этой провинциальной обители послужил московский поп: «На Москве… по всем монастырем и кружалом смотр учинили, и после смотру лучших бражников сыскали – стараго подьячего Сулима да с Покровки без грамоты попа Колотилу, и в Колязин монастырь для образца их наскоро послали». В целом русская демократическая сатира, явившись результатом классового самосознания городских низов населения, свидетельствовала об утрате церковью былого авторитета во всех сферах человеческой жизни. Это сказалось, в частности, в широком использовании пародий на древнерусские жанры, особенно на жанры богослужений литературы. Городской посад и беспокойные крестьянские слои смеялись над вековыми устоями русской средневековой жизни. Развитие русской демократической сатиры шло рука об руку с развитием народной сатиры. Общая идейная направленность, четкий классовый смысл, отсутствие отвлеченного морализирования сближали литературную сатиру с народной сатирой, что способствовало переходу ряда сатирических повестей в фольклор. Опираясь на опыт народной сатиры, писатели-сатирики нередко использовали формы деловой письменности, церковной литературы. Основными средствами сатирического обличения можно назвать пародию, преувеличение, иносказание. Огромным достижением сатиры являлось изображение, также впервые в нашей литературе, быта обездоленных людей, «наготы и босоты» во всем ее неприкрашенном виде. Сатира XVII века сделала огромный шаг на пути сближения литературы с жизнью и заложила основы сатирического направления, которое развивалось в XVIII веке и достигло небывалых вершин в XIX веке.
Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: |
Культура России XVI – XVII: литература, зодчество, живопись
В XVI и XVII веках в культуре России произошел заметный прогресс. В стране начала распространяться грамотность, улучшилась ситуация с книжным делом. Появились новые направления в архитектуре, ремесленном производстве, живописи. Россия перестала быть обособленным государством. Укрепление связей с Европой положительно отразилось на развитии российской культуры.
В стране начала распространяться грамотность, улучшилась ситуация с книжным делом. Появились новые направления в архитектуре, ремесленном производстве, живописи. Россия перестала быть обособленным государством. Укрепление связей с Европой положительно отразилось на развитии российской культуры.
Культура XVI века
В XVI веке изменения коснулись:
- литературы;
- образования;
- архитектуры;
- ремесленничества.
Литература XVI века
Российская литература пополнилась следующими произведениями:
- Летописные своды: Никоновский и Лицевой.
- Исторические: Степенная книга, Великие Четьи минеи. Предположительный автор книг митрополит Макарий.
- Публицистика: письма Ивана Грозного и Андрея Курбского, Сказания о князьях Владимирских. Известные авторы: М. Башкин, И. Пересветов, Ф. Косой.
- Бытовой жанр: Домострой. Точный автор неизвестен. Скорее всего, это работа протопопа Сильвестра.
Грамотность в XVI веке
В 1564 году Петр Мстиславец и Иван Федоров положили начало книгопечатанию. В том же году была напечатана книга «Апостол». Через год братья выпустили «Часослов». Первый русский букварь появился в 1574 году. С развитием книгоиздательской деятельности в России увеличилось количество грамотных людей. В XVI веке были напечатаны первые словари, учебники по арифметике и грамматике.
В том же году была напечатана книга «Апостол». Через год братья выпустили «Часослов». Первый русский букварь появился в 1574 году. С развитием книгоиздательской деятельности в России увеличилось количество грамотных людей. В XVI веке были напечатаны первые словари, учебники по арифметике и грамматике.
Архитектура XVI века
Постепенно популярность набирает шатровой стиль. Он получил свое название из-за перекрытия в виде шатра. Для этого стиля характерна асимметрия, многоглавие. Шатровые кровли приобрели многие храмы. Самый удачный образец архитектурного стиля – церковь Вознесения, построенная в селе Коломенском в 1532 году.
XVI век богат храмами. Самые яркие:
- 1509 год – в Московском кремле появился Архангельский собор. Архитектор – итальянец Алевиз Новый.
- 1560 год – построен собор Василия Блаженного. Над ним трудились русские архитекторы Постник и Барма.
В XVI веке российские города постепенно переходят с дерева на камень. Повлияли постоянные пожары, а также получение новых знаний в плане строительства от зарубежных мастеров. Вокруг многих городов выросли каменные стены. Самый известный архитектор того времени – Федор Конь. Укрепления Смоленского кремля и Московского Белого города – его творения.
Ремесленничество XVI века
Российские ремесленники продолжали совершенствовать свое мастерство. В XVI веке процветали:
- Резьба по дереву и кости.
- Производство изделий из железа.
- Изготовление ювелирных украшений.
Появились первые письменные инструкции, по которым мастера могли обучаться новым техникам. В 1586 году произошло знаковое для России событие – появилась первая Царь-пушка. Мастер – Андрей Чохов.
Культура XVII века
В XVII веке усиливается обмен знаниями с европейскими государствами. Происходит расхождение во взглядах духовенства и правительства. Все это отразилось на развитии культуры. Главные особенности:
- На первый план в живописи, литературе выходит личность человека.
- Ослабевает церковное влияние, происходит обмирщение культуры.
- Культура разделяется на отдельные направления: наука, светская живопись, художественная литература.
- Интерес к социальной тематике.
- Преобладание в искусстве праздничности, ярких красок.
- Повышенное внимание к распространению науки.
В XVII веке постепенно сформировался литературный и национальный язык, русская культура. Если бы духовенство и цари не вмешивались, развитие литературы, живописи, архитектуры происходило бы ускоренными темпами.
Наука в XVII веке
Новые знания в России получали благодаря переводам работ иностранных ученых, а также исследованиям отечественных знатоков. Популярностью пользовалась прикладная наука, разработки которой можно было применять на практике. Яркий пример – водяные колеса, винтовые деревянные домкраты.
Активно развивалась медицина. В распоряжении специалистов появился перевод книги Везалия «О строении человеческого тела». Были напечатаны пособия по биологии, фармакологии. Особой популярностью пользовались «цветники» и «травники». Это были полноценные инструкции по лечению от различных заболеваний.
Россия продолжала изучать все свои уголки, а также осваивать новые территории. В 1627 году появилась Книга Большого чертежа. В ней были собраны все географические и этнографические сведения как о самой стране, так и о соседних государствах. В 1667 году вышел Чертеж Сибирской земли. Географическую карту края составил генерал Петр Годунов.
Образование в XVII веке
Династия Романовых уделяла повышенное внимание распространению грамотности в России. Цари имели хорошее образование. Они понимали, что страна будет развиваться только при наличии достаточного количества профессионалов своего дела. Поэтому было открыто большое количество специализированных школ, в которых обучали подьячих, наборщиков, лекарей. В 1687 году братья Лихуды открыли Славяно-греко-латинскую академию. Самым известным ее учеником был Ломоносов.
Российское правительство предпочитало всегда находиться в курсе происходящих в мире событий. С 1621 года Посольский приказ специально для царя и его свиты составлял рукописную газету «Куранты». Она рассказывала обо всех важных новостях, происходящих в других странах.
В России массово открывались библиотеки. Они были трех типов: государственные, царские и частные. Хотя книгопечатание и развивалось, но все же длительное время наблюдалась нехватка литературы. Доступ к книгам имели только богатые сословия.
Литература в XVII веке
В России развивались следующие направления:
- Автобиографические повести: Житие протопопа Аввакума.
- Биографические произведения: Об Ульянии Осорьиной.
- Сатира: Сказание о куре и лисице, О Ерше Ершовиче, Повесть о Фоме и Ереме.
- Патриотические повести: Новая повесть о преславном Российском царстве, Сказание Авраамия Палицына.
- Учебники: Синопсис, буквари Бурцева, Полоцкого, Истомина, грамматика Смотрицкого, Азбуковники.
Кроме всего прочего в России развивалась светская поэзия. Самыми яркими представителями были Карион Истомин, Симеон Полоцкий, Сильвестр Медведев.
Живопись и театр в XVII веке
Если раньше художники практиковали плоскостное изображение, то теперь начали переходить к объемному, более реалистичному. Первопроходцем в иконописи и создании портретов нового стиля стал Симон Ушаков. Главные его работы:
- Троица;
- Спас Нерукотворный;
- Богоматерь Владимирская;
- Насаждение древа государства Российского.
Фресковая живопись приобрела мирской характер. Настенные картины демонстрировали повседневную жизнь человека, его быт, труд. В этом направлении работали художники Сила Савин, Гурий Никитин.
Если раньше портреты князей, царей рисовали по типу икон, то в XVII веке появились первые парсуны. Это были персональные портреты, на которых человек изображался реалистично, художественно. Художники в своих работах пытались передать не только внешность, но и внутренний мир своего героя. Первые парсуны были созданы для Алексея Михайловича и Федора Алексеевича.
Во второй половине XVII века иностранцы познакомили русский народ с театром. Хотя многие были против такого вида развлечения. Известно о придворном театре, в котором работала немецкая труппа лютеранского пастора Грегори. Она выступала в Немецкой слободе с 1672 по 1676 год.
Архитектура в XVII веке
Хотя в России и появлялись каменные строения, но все же деревянное зодчество доминировало. Яркий пример архитектуры того времени – царский дворец Алексея Михайловича в Коломенском. Над ним трудились Петров и Михайлов.
Постепенно появился новый стиль – московское или нарышкинское барокко. Для него характерна многоярусность, симметричность, дробность элементов, а также цветной декор. В таком стиле построен Рязанский Успенский собор, церкви Покрова в Медведкове и Филях.
История зарубежной литературы 17 века — Учебно-методическое пособие
Министерство образования и науки Республики Казахстан
Павлодарский государственный университет
им. С.Торайгырова
Е.И.Смольникова
ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 17 ВЕКА
Учебно-методическое пособие
для студентов филологических специальностей
Павлодар
УДК 82/09(1-87)(091)
ББК 83.3(3)5
С 51
Рекомендовано Учёным советом ПГУ им. С.Торайгырова
Рецензенты:
Г.К. Шаикова — кандидат филологических наук, старший
преподаватель.
С 51 Смольникова Е.И.
История зарубежной литературы 17в.: учебно-методическое
пособие для студентов филологических специальностей. –
Павлодар, 2007. – 98 с.
Учебно-методическое пособие предназначено для организации практических и семинарских занятий по курсу «История зарубежной литературы 17в.» для студентов очной и заочной форм обучения специальностей «Русский язык и литература», «Русская филология», а также для студентов всех филологических специальностей, на которых изучаются дисциплины «История зарубежной литературы» или «История мировой литературы». Оно может быть использовано как руководство при самостоятельной работе студентов, с помощью которого можно составить представление о формировании жанровой системы словесного творчества 17в., понять суть вклада в литературу Мольера и Расина, Мильтона и Кальдерона.
Пособие может быть использовано как студентами, так и преподавателями, а также учителями колледжей и лицеев гуманитарной направленности.
УДК 82/09(1-87)(091)
ББК 83.3(3)5
© Cмольникова Е.И., 2007
© Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова, 2007
Введение
Концепция курса зарубежной литературы 17 века
На изучение курса истории зарубежной литературы 17в. в соответствии с учебными планами отводится один семестр. Он строится из расчета 16 лекций (32ч) и 8 практических занятий (16ч). В ходе отведенного лекционного времени студенты получают основные знания, связанные с особенностями словесного творчества и культуры 17 века. Сложность изучения курса связана с несколькими обстоятельствами. Во-первых, это временная дистанциированность, для преодоления которой необходимо сделать попытку взглянуть на мир глазами человека, принадлежащего иной цивилизации. В начале работы над курсом студентам предлагается самостоятельно познакомиться с разработками историков культуры, подготовить выступление по одному из предложенных вопросов, связанных с изучением особенностей менталитета, культуры данной эпохи.
Множество полезных сведений приобретается при знакомстве с работами авторов, указанных в списке литературы.
Вторая сложность сопряжена с тем, что в курсе осваиваются произведения иноязычных культур, знакомство с которыми происходит в переводах. При подготовке вопросов, вынесенных на практические занятия, происходит освоение текстов памятников европейской культуры, имеющих свою историю бытования и в своей собственной, и в русской культуре. В этой связи, осознавая, что в русском варианте читатель осваивает произведение во многом в том виде, в котором его видит переводчик, чрезвычайно полезно обращаться к критическим работам. Литературоведы, соприкасающиеся с текстом оригинала, часто комментируют и акцентируют важные эпизоды и детали, традиционно оказывающиеся не переведенными и принципиально не переводимые из-за специфики строфики, своеобразия звукописи и образной системы различных национальных литератур.
Наконец, третья трудность заключается в том, что история зарубежной литературы данного периода связана с достаточно сложными и абстрактными философским системами и идеями эпохи (Р.Декарт, Т.Гоббс, Б.Спиноза, Д.Локк, Ф.Бэкон и др.).
К тому же освоение курса предполагает знакомство с актуальными проблемами литературоведения. Помимо освоения литературоведческих проблем студентам предстоит знакомство с новейшими подходами к изучению истории и культуры 17 века, изысканиями историков и культурологов в этой области, необходимыми для того, чтобы получить представление о взглядах человека 17 столетия на мир, что в свою очередь необходимо для восприятия произведений словесного творчества в историко-культурном контексте. При изучении курса происходит знакомство студентов с сутью спора историков и литературоведов о правомочности выделения семнадцатого века в отдельную эпоху.
Освоение курса предполагает также знакомство с ведущими художественными системами эпохи 17 века – классицизмом, барокко, просветительским реализмом. Художественные системы барокко и классицизма рассматриваются как широкие идейные и культурные движения, приходящие на смену Ренессансу, возникающие как своеобразная реакция на гуманизм Возрождения, как осмысление итогов идейной и художественной революции, осуществленной Ренессансом.
Происходит знакомство с основными жанрами западно-европейской литературы данного периода и их канонами, что служит базой для дальнейшего выстраивания курса Истории литературы как жанровой истории, или истории становления и взаимодействия жанров, что принципиально важно для понимания творчества ведущих мастеров следующего, девятнадцатого столетия.
Практические занятия
Одна из ведущих проблем анализа идейно-художественного содержания произведений 17 столетия – проблема художественного метода. При изучении текста художественных произведений данного периода следует учитывать факт резкого обострения философской, политической, идеологической борьбы, которая получила отражение в формировании и противоборстве двух господствующих в этом столетии художественных систем – классицизма и барокко. Обычно, характеризуя эти системы, акцентируют внимание на их различиях. Несходство их бесспорно, но несомненно также, что этим двум системам присущи и некоторые типологически общие черты.
Прежде всего, следует учитывать, что эти художественные системы искусства возникают как осознание кризиса ренессансных идеалов; и барокко, и классицизм должны рассматриваться как широкие идейные и культурные движения, приходящие на смену Ренессансу, возникающие как своеобразная реакция на гуманизм Возрождения, как осмысление итогов идейной и художественной революции, осуществленной Ренессансом.
Художники и барокко, и классицизма отвергают идею гармонии, лежащую в основе гуманистической ренессансной концепции: вместо гармонии между человеком и обществом искусство 17 века обнаруживает сложное взаимодействие личности и социально-политической среды; вместо гармонии разума и чувства выдвигается идея подчинения страстей велениям разума.
При этом следует учитывать: из того, что художники 17 столетия принципиально отвергают ренессансный гуманизм, вовсе не следует, что идеалы искусства этой эпохи антигуманистичны по своей природе. Меняются лишь формы гуманизма, его направленность и сфера применения.
Гуманизм литературы 17 века исходит не из признания гармонии духовного и плотского начал, разума и страстей, как это было в ренессансном гуманизме, а из их противопоставления; это гуманизм, который на первый план выдвигает интеллект, разум. С другой стороны, рассматривая вслед за ренессансными мыслителями личность как автономную, деятели культуры 17 века, однако, не приемлют идею добродетельности человеческой природы, стремятся исследовать личность в ее связях с окружающей средой, обществом. Соответственно и осуществление своего гуманистического идеала художники этой эпохи ставят в зависимость не только от воли и энергии самого человека, но и от его положения в обществе, от того, противодействует или способствует реализации этого идеала окружающая человека среда, способен ли человек в столкновении с ней отстоять свои идеалы.
Усиление идеологической и эстетической борьбы способствовало возникновению в эту эпоху литературных кружков, салонов и академий, находящихся в состоянии идейной и эстетической борьбы.
Интересами этой борьбы продиктовано и появление многочисленных поэтик и трактатов по эстетике. Характерной их особенностью является тенденция к сближению теории литературы, истории литературы и критики, т.е. живого современного литературного процесса.
В 17 веке, таким образом, четко оформились две художественные системы – барокко и классицизм. Правда, в некоторых трудах можно найти утверждения о том, что параллельно с барокко и классицизмом в 17 столетии продолжает развиваться также ренессансный реализм как третье художественное направление литературы 17 века. Согласиться с этим нельзя. Правда, в первые десятилетия 17 века еще продолжают творить Сервантес, Шекспир, Лопе де Вега. Но в историко-литературном плане их творчество принадлежит не 17 столетию, а предшествующей литературной эпохе Возрождения. Большинство же писателей, причисляемых к «ренессансному реализму» 17 века, такие, например, как Сорель и Скаррон во Франции, в действительности близки к одной из разновидностей литературы барокко, к так называемому «низовому» барокко. Из этого, конечно, не следует, что традиции реалистического искусства Возрождения не оказывали влияния на творческий метод писателей 17 века. Творчество некоторых из них, в частности, Антуана Фюретьера, вероятно, нельзя понять без учета этих традиций. С другой стороны, в сложном литературном процессе этой эпохи есть такие художники, творчество которых не может быть сведено целиком к одной из господствовавших художественных систем. Так, например, Корнель и Мильтон, как это будет ниже, каждый по-своему органически сочетали барочные и классицистические тенденции. Иначе говоря, при исследовании и анализе литературных произведений нужно учитывать то, что живой литературной процесс 17 века богат и многосложен, он не может быть сведен лишь к этим двум важнейшим направлениям искусства, а представляет собой процесс многообразного их взаимодействия, как и своеобразного восприятия предшествующей ренессансной традиции.
Занятие № 1Поэтическое творчество Луиса де Гонгоры
1.1 План практического занятия
1.1.1 Жанрово-стилевая типология в творчестве испанского
поэта
1.1.2 Основные положения эстетики Л.Гонгоры
1.1.3 Романтическая основа эстетики Гонгоры
1.1.4 Идейно-художественный анализ сонетного творчества
испанского поэта 1582-1585 гг.
1.1.5 Жанрово-стилистический синтез в романсах Гонгоры
(1582 — 1585г.г.)
1.1.6 Социально-критическая тема в творчестве Гонгоры конца
1580-х годов — начала 1610 г.
1.1.7 Эволюция темы несчастной любви в поэмах «Предание о
Полифеме и Галатее», «Одиночества».
Основоположником и крупнейшим представителем культистского направления в испанской барочной поэзии был Луис де Гонгора, по имени которого это направление называют также гонгоризмом.
Большая часть поэтических произведений Гонгоры при жизни была известна в списках лишь немногим ценителям поэзии. Они были опубликованы посмертно в сборнике «Сочинения в стихах испанского Гомера» (1627) и в собрании его стихотворений, вышедшем семь лет спустя.
Следует различать следующую жанрово-стилевую типологию в творчестве испанского поэта: поэзию «ясного стиля» и поэзию «темного стиля», характерную для произведений последних лет его жизни.
Основные положения эстетики Л.Гонгоры. Исходный тезис его эстетики – искусство должно служить немногим избранным. Средством для создания «ученой поэзии» для избранных и должен стать «темный стиль», имеющий, по мысли поэта, неоценимые преимущества перед ясностью прозы. Во-первых, он исключает бездумное чтение стихов: для того, чтобы постигнуть смысл сложной формы и «зашифрованного» содержания, читатель должен не раз, вдумываясь, перечитать стихотворение. Во-вторых, преодоление трудностей всегда доставляет наслаждение. Так и в данном случае: читатель получит от знакомства с произведением «темного стиля» больше удовольствия, чем от чтения общедоступной поэзии. В поэтическом арсенале Гонгоры множество конкретных способов, с помощью которых он создает впечатление загадочности, зашифрованности своей поэзии (употребление неологизмов (от латинского языка), резкое нарушение общепринятого синтаксического строя с помощью инверсии, и, в особенности, косвенное выражение мысли посредством перифраз и усложненных метафор, в которых сближаются далекие друг от друга понятия.
Романтическая основа эстетики Гонгоры: отвержение с помощью «темного стиля» реальной действительности и искусственное возвышение ее средствами искусства. Представление о красоте как о немыслимой и невозможной в окружающей реальности, обретение ее идеального существования в художественном произведении.
Идейно-художественный анализ сонетного творчества испанского поэта 1582-1585г.г., (созданного по мотивам Ариосто, Тассо и других итальянских поэтов).
Сонеты Гонгоры не подражание, а сознательная стилизация и акцентирование некоторых мотивов и приемов первоисточника. В каком направлении осуществляется эта стилизация, можно проследить на примере сонета «Пока руно волос твоих течет…», являющегося переложением одного из сонетов Тассо.
Даже у Тассо, поэта, трагически переживающего кризис ренессансных идеалов, горациевский мотив наслаждения мгновением счастья не обретает столь безысходно пессимистического звучания, как у юного Гонгоры. Тассо напоминает девушке о неизбежной старости, когда ее волосы «покроются снегом»; Гонгора же противопоставляет не юность старости, а жизнь смерти. В последнем трехстишии он прямо полемизирует с итальянским поэтом, говоря, что, «не в серебро превратится» золото волос девушки, а, как и ее красота, и сама она, обратится «в землю, в дым, в прах, в тень, в ничто».
Дисгармония мира, в котором счастье мимолетно перед лицом всевластного Ничто, подчеркивается гармонически стройной, до мельчайших деталей продуманной композицией стихотворения.
Прибегая к приему анафоры, поэт четырежды нечетные строки четверостиший начинает словом «пока», как бы напоминая о быстротекущем времени. Этим словом вводятся четыре группы образов, в своей совокупности фиксирующих красоту девушки. Подобный параллелизм конструкции четверостиший придает восторгам поэта перед прелестями юной девы чуть холодноватый, рассудочный характер. Но далее происходит взрыв эмоций. Трехстишия открываются призывом «Наслаждайся» и заключаются словом «Ничто». Этими словами обозначены трагические полюсы жизни и смерти. Гонгора вновь прибегает к параллелизму построения, но на этот раз четко показывает, что следует за словом «пока» в четверостишиях: все прелести девушки, в конечном счете, обратятся в землю, дым, прах, тень. Пессимистическая идея произведения получает здесь наибольшее раскрытие.
В этом сонете стилизация направлена на углубление трагического звучания первоисточника, а не на его опровержение. Нередко, однако, стилизация у Гонгоры осуществляется по-иному, напоминая скорее пародию на оригинал.
Пародийное смещение планов легко обнаруживается и в создававшихся в те же годы романсах. Таков, например, романс «Десять лет прожила Белерма…» (1582), пародирующий рыцарские сюжеты. Десять лет Белерма проливает слезы над завернутым в грязную тряпицу сердцем своего погибшего супруга Дурандарте, «болтливого француза». Но появившаяся донья Альда призывает Белерму прекратить «дурацкий поток» слез и поискать утешения в свете, где «всегда найдется массивная стена или могучий ствол», на которые они могут опереться.
Такому же пародийному снижению подвергаются и пасторальный, и «мавританский», и другие романсы. Сперва может показаться, что для Гонгоры главное – создание литературной пародии. Но это не так: литературная пародия для поэта – лишь способ выражения отношения к действительности, лишенной красоты, благородства и гармонии, которые приписываются ей пародируемыми литературными произведениями. Пародия, таким образом, перерастает в бурлеск, построенный на несоответствии вульгарного тона повествования его «высокому» содержанию. Свое обращение к бурлескной поэзии Гонгора демонстрирует в стихотворении «Сейчас, когда выдалась свободная минутка…» (1585?). Он сравнивает свою поэзию с бандурией, примитивным народным музыкальным инструментом. «Я бы взялся и за более благородный инструмент, но его, увы, никто не хочет слушать». «Ведь нынче правде не верят, издевка нынче в моде, — ведь мир впадает в детство, как всякий, кто стареет». Эти слова звучат лишь зачином для иронического рассказа о мирной жизни и любовных утехах рассказчика до той поры, пока Амур не пронзил ему сердце стрелой; далее повествуется о муках влюбленного и о конечном позорном изгнании бога любви. Этот последний эпизод кощунственно пародирует отлучение от церкви: «Прости мне мою камилавку, не вымещай на ней своей ярости. Церковь на этот раз мне пригодится; гляди-ка отлучим и тебя…Куриные у тебя крылья, отправляйся-ка поскорее к шлюхам».
Как и в творчестве некоторых позднеренессансных художников (Сервантеса, например), в произведениях Гонгоры взаимодействуют два плана: реальный и идеальный. Однако у Сервантеса, по крайней мере в «Назидательных новеллах», и реальное, и идеальное начала существуют в действительности, идеальное начало иногда реализуется в жизни, придавая реальному плану гармонию и обеспечивая счастье человека. У Гонгоры же реальный план всегда отражает безобразную действительность, а идеальный – «навязываемую» ей красивую неправду. Поэтому вторжение идеального начала в реальное (в данном случае Амура в бесхитростную жизнь человека) рассматривается как одна из первопричин человеческих бед; идеальное при этом обречено на поражение. Бурлеск разоблачает и отвергает ренессансно-гуманистическую утопию.
Это не значит, однако, что Гонгора противопоставляет утопиям реальность как нечто позитивное. В том-то и состояла трагедия поэта, что для него одинаково неприемлемы и идеальное, и реальное; всякая реальность отвратительна. Отрицание и критика реальности в ряде бурлескных стихотворений обретают социальное звучание. Особенно отчетливо социально-критическая тема звучит в нескольких циклах стихотворений, посвященных испанской столице и создававшихся с конца 1580-х годов и до 1610 г.
В одном из стихотворений герой, привыкший к полноводным рекам Андалусии, дивится на пересохшую столичную реку Мансанарес. Однажды ему показалось, что воды в реке за ночь прибавилось. Что же случилось? «Что привело вчера к беде, сегодня возродило славу?» И река отвечает: «Один осел вчера напился, другой сегодня помочился». О том, что за этой издевкой скрывается нечто большее, чем насмешка над неказистой столичной речушкой, свидетельствует упоминание в стихотворении о тогда еще новом, построенном по приказу Филиппа 2, помпезном Сеговийском мосте, показное величие которого выглядит особенно нелепо на фоне жалкой реки, через которую он переброшен. Несоответствие между Сеговийским мостом и протекающим под ним Мансанаресом становится как бы аллегорией разрыва между претензиями официальной Испании и печальной реальностью, между недавним величием Испанской империи и ее нынешним бессилием. Та же развернутая метафора – в основе сонета «Сеньор дон Сеговийский мост» (1610). Наиболее обобщенную характеристику социальной действительности Испании поэт дает в знаменитом сатирическом стихотворении «Деньги – это все» (1601), в котором он утверждает: «Все продается в наше время, все равняют деньги…»
Гонгора не может принять мира, в котором всевластным господином стали деньги. Единственным убежищем, где можно укрыться от реальности, по его мнению, — это эстетическая утопия, которую он творит в своих поздних поэмах.
Путь, пройденный поэтом до того, как он обратился к утопии, особенно наглядно демонстрируется эволюцией в его творчестве темы несчастной любви. Сначала это тема предстает в пародийном свете. Затем она освобождается от лирического, личного и переносится на мифологический материал: таковы романсы о Пираме и Фисбе, о Геро и Леандре. В этих произведениях эта тема приобретает трагическое звучание, но по-прежнему излагается языком бурлеска: трагическое проступает сквозь гримасу смеха. Наконец, эта же тема осмысляется глубоко трагически в «Предании о Полифеме и Галатее».
Легенда о несчастной любви уродливого циклопа Полифема к прекрасной нимфе Галатее, впервые изложенная в «Одиссее», трактуется в поэме Гонгоры традиционно. Новаторство поэта: звукопись, цветопись, все возможности языка для передачи чувств и переживаний персонажей, красок окружающей их природы.
Поэма построена на контрастном столкновении двух миров – мира Галатеи, залитого светом, многокрасочного, ясного и радостного мира красоты, и мира Полифема, мрачного, уродливого и темного. Эта антитеза возникает из столкновения двух звуковых потоков – звонкого и чистого, когда речь идет о Нимфе, и глухого, тревожного в строфах, посвященных циклопу; из противопоставления «высоких» метафор первого ряда и «снижающих», «вульгаризирующих» сравниваемый объект метафор второго ряда (пещера Полифема, например, называется «ужасающим зевком земли», а скала, закрывающая вход в нее, кляпом во рту пещеры). Этой же цели стилистически раскрасить и противопоставить мир реальности и мир мечты служат и синтаксическая инверсия, и неологизмы, и многие другие выразительные средства языка поэмы (привести примеры).
Все эти приемы Гонгора доводит до совершенства в самой «трудной» и самой известной поэме «Одиночества» («Уединения»), оставшейся незаконченной: из задуманных поэтом четырех частей написаны только две.
Фабула поэмы предельно проста. Некий юноша, имя которого так и остается неизвестным, покидает родину из-за несчастной любви. Корабль, на котором он плыл, терпит крушение, и море выбрасывает юношу на берег. Поднявшись в горы, герой находит приют у пастухов, а на следующий день становится свидетелем сельской свадьбы («Первое одиночество»). Затем вместе с несколькими рыбаками, приглашенными на свадебный пир, он вновь спускается к морю, переправляется в лодке на остров, где живут рыбаки, наблюдает их мирный труд и простые радости и, наконец, присутствует на пышной охоте кавалеров и дам («Второе одиночество»).
Пересказ фабулы, как видим, ничего не объясняет ни в замысле поэмы, ни даже в названии ее. И это естественно, ибо как говорил великий испанский поэт 20 века Федерико Гарсиа Лорка в своей лекции о Гонгоре, «…Гонгора избирает особый, свой тип повествования, скрытого метафорами. И его трудно обнаружить. Повествование преображается, становится как бы скелетом поэмы, окутанным пышной плотью поэтических образов. Пластичность, внутреннее напряжение одинаково в любом месте поэмы; рассказ сам по себе никакой роли не играет, но его невидимая нить придает поэме цельность. Гонгора пишет лирическую поэму невиданных доселе размеров…»
Главное в поэме – не фабула, а чувства, пробуждаемые в сердце героя наблюдением за природой и жизнью поселян, составляющей как бы часть природы. Пейзаж для Гонгоры важен не сам по себе, а как антитеза неприемлемой для него реальности. Поэтому в испанском названии поэмы – «Soledades» — смысл двойственный: с одной стороны, это одиночество, безлюдье лесов и полей, среди которых развивается действие поэмы, с другой – «уединение», уход от действительности, от мира зла и корысти, в воображаемый золотой век человечества, в котором царят добро, любовь и справедливость, братские отношения между людьми. Однако, изображая идиллию человеческих отношений, Гонгора, в отличие от гуманистов Возрождения, ни на минуту не забывает, что эта идиллия – всего лишь поэтический мираж, сладостная, но нереальная мечта. Это чувство и должен передать читателю весь стилистический строй поэмы, размывающий четкость контуров в описаниях, покрывающий их туманом и возбуждающий в читателе ощущение чего-то таинственного и даже мистического, скрытого за внешне простым и ясным.
Перестройка захватывает не какие-то отдельные элементы поэмы, а всю ее. Гонгора ставит перед собою задачу – создать особый поэтический язык, в котором необычный синтаксис дает возможность словам раскрыть все богатство их значений и связей. При этом метафора, всегда существовавшая как одно из стилистических средств, становится важнейшим способом обнаружения внутренних и не всегда ясно различимых связей реальных явлений. Более того, в поэтическом языке Гонгоры есть «опорные» слова, на которых строится целая система метафор. Каждое из этих слов приобретает широкий спектр значений, нередко неожиданных и не сразу угадываемых, и в этих вторичных значениях растворяется основной смысл слова. Так появляются, например, метафорические трансформации слова «снег»: «пряденый снег» (белые скатерти), «летящий снег» (птицы с белым опереньем), «плотный снег» (белое тело горянки) и т.п.
Другая особенность поэтического языка Гонгоры – перекрещивание смысловых значений. В результате образуется целый узел метафорических значений, накладывающихся одно на другое.
Это особенно характерно для второй части поэмы, которая в целом более лаконична и проста, но и более насыщена этими внутренними связями. Таково, например, начало второй части, где описывается прилив, когда волны, наполняя устье впадающего в море ручья, будто в ярости бросаются по его руслу к горам, но в конце концов смиряются и отступают. В этом пластическом описании, занимающем более 30 строк, отчетливо обнаруживаются четыре метафорические центра, соответствующих фазам прилива и отлива: ручей, впадающий в море, метафорически уподобляется бабочке, летящей на огонь, к гибели; смешение вод ручья и моря передается метафорой «кентавр»; отступление ручья под натиском прилива уподобляется неравному бою между молодым бычком и грозным бойцовым быком; и, наконец, осколки разбитого зеркала – метафора, с помощью которой описывается берег после отлива. Таковы только метафорические центры описания, а ведь из этих центров в каждом случае расходятся лучами подчиненные им метафорические обороты. Сложный и динамический образ природы у Гонгоры возникает из цепи взаимосвязанных, углубляющих друг друга метафор.
Как бы тщательно ни была отшлифована форма произведений у андалузского поэта, от формализма, в котором его обвиняли в последующие столетия, он далек. Вся эта титаническая работа не самоцельна; она проделывалась ради того, чтобы наполнить многозначным смыслом каждый образ и, в конечном итоге, убедить читателя в красоте создаваемого искусством мифа в противовес уродливой действительности Испании.
игиозные воззрения драматурга становятся формой выражения его «христианского гуманизма»
Литература 17 века — Веб-новелла
Черная девушка в 17 веке
Андорея
век путешествует во времени в 17 век в Америке в расистские времена против африканской расы.
Читать сейчасУпрощенная военная история (17-20 века)
от TheGreatHistoryMan
Это не вымышленная книга, это информация по военной истории, которую я собирал с 2016 года, так как она носит военный характер. в разделе «Военное дело и военное дело».Все не-Fictio
Читать сейчасЛюбовь вечна
от Sheeba_Sekar
Это история любви красивой девушки 21 века и короля 17 века.
Читать сейчасРассказы о купцах или хитрых купцах
от Gourmet_DAO
литературы. Ни греки, ни китайцы не имели большего влияния в древности. Теперь китайцы снова пришли в Смолл-Ан … они сдерживают неоколонизацию… большой империи
Читать сейчасPet King
от Jie Po
век назад «. «Это неправильно.» Old Time Tea с сомнением покачал головой: «Я ясно видел вислоухую кошку до того времени …» «Какие?» Чжан Цзянь был ошеломлен. «Дедушка Чай, когда вы говорите« раньше », составляет
Читать сейчасReborn Aristocrat: Return of the Vicious Heiress
от Just Like
литература процветала. Проводя ее в замок, Си Иянь спросил: «Тебе здесь нравится архитектура?» По пути Вэнь Синя восхищалась архитектурным стилем особняка, и она абсолютно
Читать сейчасGourmet DAO
by Gourmet_DAO
литература прошла идеологический фильтр.Иногда идеологи вносили свой вклад в некоторые работы, несколько изменяя саму суть романа или рассказа. Мир был разделен на добро — Sec
Читать сейчасTreasure Hunt Tycoon
by Full-Metal Bullet
17th Century тогда? » Мистер Мартин кивнул. «Да, 17 век — середина 17 века. В ранние периоды, хотя кавалерия уже использовала шкуры в качестве украшения, они этого не делали.
Читать сейчасКЛАН
by Gourmet_DAO
век нашей эры .Азия. Восток. Империя Тан — вассальное королевство Цао, княжество Смол-Ан. Противостояние Арабского халифата и Танской империи. Средний возраст. Азия 17 века. Eas
Читать сейчасЗаметки путешественника
от Gourmet_DAO
век. Они были найдены на месте бывшей крепости, которая стояла в степи и прикрывала торговый путь северных Светлых гор. Он соединил главный город Светлые бекты с горным ущельем.
Читать сейчасВозвышение английского романа в 18 веке • English Summary
Типы романов
Существует два основных класса художественной прозы:
- Сказка или романс: Это зависит от происшествия и приключения в его главном интересе.
- Роман: Это больше зависит от проявления характера и мотива. Роман сложнее сказки.
Английский роман родился в 16 -м и 17 -м веках и достиг большой высоты в эпоху Папы и доктора Джонсона.
Группа из первых четырех романистов эпохи Августа или эпохи неоклассицизма: Ричардсон, Смоллетт, Филдинг, и Стерн, , в руках которых расцвел роман, называются четырьмя колесами романа.
Ответственные факторы
Ниже приведены причины появления романа в Англии 18 века.
Рост среднего класса
Литература 17 -х годов века процветала под покровительством высших классов. Социальная история Англии 18-го века характеризовалась подъемом среднего класса.
Из-за огромного роста торговли и коммерции английский купеческий класс становился богатым, и этот недавно богатый класс также хотел преуспеть в области литературы.
Этим классом пренебрегали высокородные писатели, а их вкусы и чаяния выражали романисты того времени. На самом деле Роман был продуктом среднего класса. Следовательно, с появлением среднего класса рост романа был вполне естественным.
Газеты и журналы
В 18, -м, годах появление газет и журналов привлекло большое количество читателей из среднего класса. Этих новых читателей мало интересовали романы и трагедии, интересовавшие высший класс.
Таким образом, выросла потребность в литературе нового типа, которая выражала бы новые идеи 18 -го века, и этот новый тип литературы был не чем иным, как новым.
Возвышение реализма
Литература 18 века характеризовалась духом реализма, а романтические черты, такие как энтузиазм, страсть, воображение и т. Д., В этот период пришли в упадок.
Разум, интеллект, правильность, сатирический дух и т. Д. Были основными характеристиками литературы XVIII века.Английский роман обладал всеми этими характеристиками.
Роль женщин
В 18, -м, веке женщины из высших и средних классов могли участвовать в некоторых видах деятельности мужчин. Хотя они не могли заниматься администрацией, политикой, охотой, выпивкой и т. Д., Поэтому в свободное время они читали романы.
Закат драмы
Упадок драматургии также способствовал расцвету романа в 18 веке.В 18 веке драма потеряла ту славу, которую она имела в елизаветинскую эпоху.
Не оставался влиятельной литературной формой. Следовательно, некоторые другие должны были занять его место, и его место занял английский роман после 1740 года нашей эры.Таким образом, упадок драмы привел к возвышению английского романа.
Категория: Британская литература — 17 век
— Любые — Американская литература — Американская литература — Ранняя (до 1830 г.) — Американская литература Возрождения / довоенного периода — Американская литература — Американская литература 19 века — Американская литература 20 века — Современные американские исследования — Афроамериканцы — Американцы азиатского происхождения — Латинские / о и Чикана / o Литературы — Американская литература коренных американцев — Поэзия — Американская литература — Прозаическая американская литература — Драма / ТеатрЧерные исследования; Черная диаспора Британская литература — Старый и среднеанглийский язык — Возрождение / Шекспир / Милтон — Британская литература — Реставрация 17 века / Романтизм 18 века — Британская литература — Ирландско-британская литература 19 века — Модернизм — Британская литература — 20 век -Британская литература — Поэзия — Британская литература — Проза — Британская литература — Современная британская литература — Драма / ТеатрБританская литература — XIX век Ранняя современная драмаОбразованиеОкружающая среда, гуманитарные наукиФеминистские исследованияФранцузская литература — Литература Латинской и Чиканкс XX векаЗакон и литература Транснациональные исследования — американская литература — постколониальный / третий мир нарративная медицина / медицинские гуманитарные науки Постколониальные исследованияПостколониальные исследованияРиторика и композиторские исследованияФантастикаТест Мировая литератураТворческое письмо — Документальная литература — Творческое письмо — Поэзия — Рассказы k-Сравнительные расовые исследования-Культурные исследования-Диаспора и транснациональные исследования-Исследования инвалидности-Цифровые гуманитарные науки-Гей / лесбийские исследования / ЛГБТ-греческие, шекспировские и межкультурные сравнения трагедии-История книги-Литературная критика / Теория-литература и искусство-литература и история-нарративная теория-литература и перформанс-литература и философия-литература и психология / когнитивная наука-литература и религия-литература и наука-магический реализм-современная и постмодернистская литература-перформанс-исследования-роман-урбанистика- Женские исследования / Гендер и сексуальность
Английская литература: начало двадцатого века
Расцвет ирландской драмы пришелся на начало 20 века., в основном под эгидой Театра Аббатства в Дублине (см. ирландский литературный ренессанс). Джон Миллингтон Синдж, Уильям Батлер Йейтс и Шон О’Кейси писали на ирландские темы — мифические в поэтической драме Йейтса и политические в реалистических пьесах О’Кейси. Также ирландец Джордж Бернард Шоу писал острые драмы, отражающие все аспекты жизни британского общества. Фактически, многие выдающиеся деятели английской литературы 20-го века не были англичанами; Шоу, Йейтс, Джойс, О’Кейси и Беккет были ирландцами, Дилан Томас — валлийцами, Т.С. Элиот родился американцем, а Конрад был поляком.
Поэзия начала ХХ в. был типичен для традиционного романтизма таких поэтов, как Джон Мейсфилд, Альфред Нойес и Вальтер де ла Маре, а также экспериментов художников-художников, в частности Хильды Дулиттл (Х. Д.), Ричарда Алдингтона, Герберта Рида и Д. Х. Лоуренса. Лучшим поэтом того времени был Йейтс, в поэзии которого романтическое видение соединилось с современными политическими и эстетическими проблемами. Хотя традиция романа XIX века продолжалась в творчестве Арнольда Беннета, Уильяма Генри Хадсона и Джона Голсуорси, новые писатели, такие как Генри Джеймс, Х.Дж. Уэллс и Джозеф Конрад выразили скептицизм и отчуждение, которые должны были стать чертами поствикторианской чувствительности.
Первая мировая война потрясла Англию до глубины души. По мере того как социальные нравы были поколеблены, изменились и художественные условности. Особенно большое влияние оказали произведения военных поэтов, таких как Зигфрид Сассун и Уилфред Оуэн, последний погиб на войне (как и Руперт Брук и Исаак Розенберг). Знаменитая тетралогия Форда Мэдокса Форда «Конец парада , », возможно, является лучшим изображением войны и ее последствий.Новая эра потребовала новых форм, олицетворяемых работой Джерарда Мэнли Хопкинса, впервые опубликованной в 1918 году, и Т.С. Элиота, чья длинная поэма The Waste Land (1922) стала переломным моментом в истории американской и английской литературы. Его сложность, формальное изобретение и мрачный антиромантизм должны были влиять на поэтов на протяжении десятилетий.
Не менее важным был роман Улисс, , также опубликованный в 1922 году ирландцем-эмигрантом Джеймсом Джойсом. Хотя его книги вызывали споры из-за свободы языка и содержания, революции Джойса в повествовательной форме, обращении со временем и почти всеми другими приемами романа сделали его мастером, которого следовало изучать, но только периодически.Хотя романы Д. Х. Лоуренса были более традиционными по форме, они также бросали вызов условностям; он был первым, кто отстаивал как примитивные, так и сверхцивилизованные потребности мужчин и женщин.
Чувствительность и психологическая тонкость отличают превосходные романы Вирджинии Вульф, которая, как и Дороти Ричардсон, экспериментировала с внутренними формами повествования. Вульф был центром блестящей группы Блумсбери, в которую входили писатель Э. М. Форстер, биограф Литтон Стрэчи и многие известные английские интеллектуалы начала 20 века.Олдос Хаксли и Эвелин Во высмеивали группу и период, в то время как Кэтрин Мэнсфилд и Элизабет Боуэн уловили их колорит в художественной литературе.
Под влиянием Великой депрессии, подъема фашизма и политики умиротворения Англии многие писатели и интеллектуалы искали решения в политике левых или правых. Уиндем Льюис высмеивал то, что он считал полным растворением культуры в книге Apes of Gods (1930). Джордж Оруэлл сражался с республиканцами во время гражданской войны в Испании.Этот опыт оставил ему глубокое разочарование в коммунизме, чувство, которое он красноречиво выразил в таких работах, как Animal Farm (1946) и Nineteen Eighty-four (1949). Поэты У. Х. Оден, Кристофер Ишервуд, Стивен Спендер и Ч. Дэй Льюис провозгласили свои левые политические обязательства, но настоятельные требования Второй мировой войны вытеснили эти долгосрочные идеалы.
Колумбийская электронная энциклопедия, 6-е изд. Авторские права © 2012, Columbia University Press.Все права защищены.
См. Другие статьи в энциклопедии по: Английская литература, 20 век. до настоящего времени
Британское искусство XVII века
Живопись
В английской живописи 17 -х годов века доминировали художники иностранного происхождения, в основном портретисты (например, Рубенс и Ван Дайк ), еще до Гражданской войны. Сэр Питер Lely и сэр Годфри Кнеллер продолжили эту тенденцию после Реставрации.Родившийся в Германии Кнеллер сменил Лели на посту придворного портретиста, но, хотя его портреты часто имеют определенную живость, его довольно частое использование помощников в студии привело к тенденции к монотонности. Подавляющее большинство картин, выполненных отечественными художниками, оставалось чисто провинциальным. Лели начал свою деятельность в Англии во время Гражданской войны, вероятно, в 1641 году, но его портретов членов двора Карла II установили образец для английской портретной живописи второй половины 17, 90, 103, века.Джерард Суст, Джейкоб Хьюисманс и Виллем Виссинг также работали в Англии как портретисты, близкие по стилю к Лели, тогда как Ян Сиберехтс и Роберт Стритер рисовали «портреты» английских загородных домов. Самыми выдающимися художниками, поселившимися в Англии в этот период, были Ван де Вельдес , от которых берет начало традиция британской морской живописи, во главе с Питером Монами и Сэмюэлем Скоттом.
Скульптура
Английская скульптура начала 17 -го века была очень провинциальной, Николас Стоун и Эдвард Маршалл были единственными английскими скульпторами, которые поднялись над общим уровнем посредственности.Их стили были основаны на современной нидерландской скульптуре с небольшими примесями итальянского влияния; а после 1660 года непонятные заимствования Джона , Бушнелла из Бернини служат только для того, чтобы его цифры выглядели нелепо. Самым выдающимся английским скульптором второй половины -го века был Эдвард Пирс, , в редких бюстах которого можно найти что-то от энергии и силы Бернини. Но общий тираж английской скульптуры, представленной Фрэнсисом Бердом, Эдвардом Стентоном и даже всемирно известным резчиком по дереву Гринлингом Гиббонсом, оставался безупречным.Так было до тех пор, пока Джон Майкл Rysbrack из Антверпена не поселился в Англии в c. 1720 г., затем француз Луи-Франуа Рубильяк ок. 1732 г., что в Англии работали два скульптора европейского уровня.
«Британская» литература 20–21 века: последние критические тенденции
Nóra Séllei
1 Каким бы тонким ни была эта тема в области литературной критики, в этом коротком обзоре я даже не могу взять на себя ответственность охватить все аспекты — и публикации по всем аспектам — критических столкновений между модернизмом и средним капиталом, которые кажется, что они находятся в постоянном перетягивании каната в ходе недавних критических дебатов, тем не менее, с обещанием умиротворения.Я начну с наклонного угла, с точки зрения Вирджинии Вулф, культовой женщины-модернистского писателя английской литературы, которая занимает очень твердую позицию в отношении среднего человека: « Но если ваш рецензент или любой другой рецензент посмеет намекнуть, что я живу в Южном Кенсингтоне я подам на него в суд за клевету. Если какой-либо человек, мужчина, женщина, собака, кошка или полуразрушенный червяк осмелится называть меня средним мозгом, я возьму ручку и нанесу ему удар »(Woolf 1969, 203). Это очень четко сформулированная позиция, справедливость которой также может быть распространена на общие отношения между высоким модернизмом и средним.Однако современные исследования последних полутора десятилетий делают эту четкую двоичную систему гораздо более проблематичной и размытой, а критическое исследование сосредоточено на переосмыслении этой двоичной оппозиции.
2 Монография, имеющая решающее значение для повторного исследования этой проблемы, — это Modernism Питера Чайлдса (2000; исправленное издание 2007 г.), в которой он больше не видит модернизм как «прогрессивную модель» в том смысле, что «формы литературного дискурса размываются. . . или перезаписать.. . те, что были до ‘; скорее, его концепция модернизма «принимает и признает сосуществование различных стилей в текстах», а также считает модернизм «индивидуальным из более широких социальных структур, таких как массовые движения и популярная культура». Модернизм, определяемый таким образом, можно рассматривать как «усилия тех форм творческого искусства, которые отошли от фиксированных условий репрезентации, будь то формальные или политические» (133). На основе этой расширенной концепции трудно провести границы модернизма: во-первых, хронологически; во-вторых, в сферах культурного и художественного производства; и, в-третьих, в отношении различных академических дисциплин, исследования которых сосредоточены на «одном и том же» объекте.Таким образом, монографию Чайлдса можно рассматривать и как краткое изложение основных тенденций на данный момент, и в то же время как открытие новых возможностей для дальнейших исследований. Далее я сконцентрируюсь на пяти монографиях: The Bourgois Interior Джулии Прюитт Браун (2008 г.), «Вирджиния Вульф и отечественный роман девятнадцатого века» Эмили Блер (2007), «Романтические современности» Александры Харрис: английские писатели, художники. и воображение от Вирджинии Вулф до Джона Пайпера (2010), «Домашний модернизм » Кьяры Бриганти и Кэти Мезеи, роман межвоенного периода и Э.Х. Янг, (2006) и Ина Хаберманн, «Миф, Память и среднечище: священник, дю Морье и символическая форма англичаности » (2010).
3Эти заголовки предлагают подход, отличный от исследования формальных черт модернизма, но сталкиваются с трудностями, пытаясь разгадать, как начались процессы переосмысления. Для меня переосмысление модернизма имеет глубокие корни в теории культуры и культурных исследованиях, особенно в исследовании семиотики пространства, будь то городское и общественное или сельское, домашнее и частное.Независимо от того, как некоторые из этих концепций традиционно считаются неполитическими, ни одно из них не является исключением из политического, включая политику гендера, которая, на мой взгляд, также тесно связана с разделением между модернизмом и средним. Произошедшее можно рассматривать не только как ревизию концепций модернизма , но и как переосмысление дискурса о модернизме . В широком смысле результатом является не только признание среднего и женского начала в качестве законных тем для критического исследования (как Дафна дю Морье параллельно с высоким модернизмом), но и то, что мы видим, также стирает границы модернизма в нескольких направлениях : в его отношении как к викторианскому и эдвардианскому прошлому, так и к тридцатым годам, а также между высокой / элитарной культурой и популярной / средней культурой.В целом семиотика культурного контекста в более узком и широком смысле слова заняла центральное место в критическом исследовании.
4Когда дело доходит до среднего уровня (и его давней оппозиции модернизму), первые ассоциации заключаются в том, что он привязан к буржуазии, к среднему классу; также, что он не очень сложен интеллектуально, ему не хватает повествовательных и технических новшеств, а в пространственном и гендерном плане он связан с домашним и (как таковой) с женским, отсюда и распространение монографий по семиотике пространства — домашнего пробел — когда дело доходит до средней брови.Из выбранных монографий первостепенное значение имеет здесь работа Джулии Прюитт Браун The Bourgeois Interior (2008), тем более что помимо исследования классического домашнего пространства, ее аргумент также связан с вызовом разделению викторианской и модернистской эпох. . Одно из ее основных заявлений состоит в том, что «мифология буржуазной семейной жизни все еще с нами», но она также добавляет, что «[один из самых мощных компонентов этой мифологии — это воображение и память о безопасности» (6). , под этим она подразумевает, что утрата буржуазной безопасности возникла задолго до модернизма, в том, что обычно читается как текстовое пространство домашнего уюта: в викторианском романе.Безопасность, по ее мнению, никогда не присутствовала, а скорее отсутствовала, и она утверждает, что «постоянное вторжение внешнего мира в жилище среднего класса в романах Диккенса является особенно сильным воспоминанием об этой утрате» (5). .
5Викторианский буржуазный интерьер — и его центральное пространство, гостиная -, таким образом, представляет собой сложное пространство, включающее в себя память о безопасности, память о никогда не существовавшем мифе, которую в результате можно только потерять. Плотно укрытый викторианский дом с его обоями, шторами, коврами, обивкой и скатертями, герметично закрывающими все, хотя он, кажется, предполагает безопасность и защиту, скорее вовлечен в отчаянную и безнадежную борьбу с утратой из мифа безопасности.Таким образом, хотя нельзя отрицать, что «после Первой мировой войны буржуазный дом как мифологическая конфигурация подошел к концу» и «внутренний интерьер был переосмыслен антибуржуазной энергией» (103) Блумсбери, мастерских Омега и Ле Корбюзье, чьи « труды выражают модернистский антагонизм по отношению к традиционной функции викторианского дома как частного убежища » (104), можно также рассматривать викторианское и модернистское пространства в менее антагонистических терминах, как в их культурно-пространственном, так и в их текстовых версиях.
6 В этом отношении особенно актуально увидеть, как создание текстовых пространств ведущими модернистскими писателями связано с жанрами как пространствами и с конкретными текстовыми пространствами. Это исследование, которое Эмили Блэр проводит в своей монографии «Вирджиния Вульф и отечественный роман девятнадцатого века» (2007). Отношение Вульфа к домашнему роману и роману девятнадцатого века имеет решающее значение, если мы принимаем в качестве допущения, что домашние пространства романа девятнадцатого века являются женскими; что домашняя принадлежность к среднему классу в художественной литературе девятнадцатого века более или менее прямо переросла в беллетристику середины войны; и что отказ Вульфа от материалистов Эдуарда как в «Современной фантастике», так и в «Мистере Беннетте и миссис Браун» можно распространить и на викторианский роман, и поэтому модернизм Вульфа вряд ли совместим с домашним романом XIX века.Тем не менее, несмотря на эти предположения, которые в конечном итоге отделяют Вульф от викторианского домашнего романа, Блэр выступает за более тонкую позицию, которая также переосмысливает отношения между Вульфом и средним человеком. Предложение Блэра состоит в том, что дискурс домашнего обихода и его эстетизация в основной литературе девятнадцатого века предоставляют Вульфу язык и эстетическую основу, которые продолжают предлагать термины для определения новых образов женщин и написания художественной литературы (7). Что еще более важно, она утверждает, что «[я] приписывая свое неприятное отношение к викторианским домашним моделям, модернистские проекты [Вульф] сливаются с ее феминистскими проектами, поскольку она пытается« охватить »любопытное разделение двух сфер опыта -« условности ». »И« интеллект »» (7–8), проблема ее юности, которую она так памятно вспоминает в «Очерке прошлого», когда пишет: «Разделение в наших жизнях было любопытным.Внизу была чистая условность; наверху чистый интеллект. Но между ними не было никакой связи »(Woolf 1976, 171).
7Блер считает, что это разделение никогда полностью не преодолевается в Вульф, на что указывает ее собственный канон женщин-писательниц девятнадцатого века, в который входят Джейн Остин, Шарлотта и Эмили Бронте и Джордж Элиот; Элизабет Гаскелл и Маргарет Олифант, например, опущены. Это исключение, по словам Блэра, выдает двойственное отношение Вульфа к отечественной художественной литературе девятнадцатого века (3), двойственность, которая проявляется в том, что мать Кэтрин Хилбери называет «поэзией неправильной стороной» в Night and Day (цитируется Блэром 1).Под этим она имеет в виду домашнюю работу, изображение которой в текстах Вульфа Блер характеризует как «отражение беспорядочных связей между литературой, женщинами, их поведением и их домами» (2). Эта «неопрятность», в свою очередь, приводит к амбивалентности Вульфа по отношению к «оценкам» — или, я бы сказал, переоценке — «домашнего артистизма и критики косвенного влияния женщин» в модернистских шедеврах Вульфа (9), и это также видно в ее двойственное отношение к представлению «женского начала как духовно« рассредоточенного »» среди других в качестве хозяйки, в то время как представления о женственности также «советуют женщинам« собираться »в практике домашнего искусства», традиция, которую «Вульф и наследует, и изобретает». (9).Эта интерпретация Блэра представляет собой тонкий подход к отношению Вульфа к викторианской литературной традиции в целом и к домашнему роману в частности, что, с другой стороны, ощутимо присутствует в литературе среднего уровня середины войны и как таковая проливает новый свет. об отношениях между модернизмом и обывателями.
8 Монография Александры Харрис, Романтические современности: английские писатели, художники и воображение от Вирджинии Вульф до Джона Пайпера (2010) также основывает аргумент на бинарной полярности: между модернизмом и культурным прошлым, но вместо того, чтобы рассматривать их как несовместимые бинарные элементы, Харрис скорее выступает за стирание границ между модернизмом и прошлым, а также между конструктивизмом и консерватизмом.Сосредоточившись на 1930-х и 1940-х годах, она утверждает, что этот творческий проект переосмысления прошлого или «творческих притязаний Англии» (10), разделяемый художниками всех мастей в самом широком смысле слова, был подпитан и осуществлен «культура, очарованная упадком аристократии и символизмом загородного поместья, заинтересованная в будущем деревенских церквей и привлеченная к романтической традиции в искусстве» (12), часто проявляющаяся в «любви к старым церквям и чайные »(12), которые обычно не рассматриваются как характеристика модернизма и его конструктивистской философии пространства.Адольф Лоос, например, как известно, «осуждал тидллы и завитки как симптомы морального вырождения» и утверждал, что «ценность, придаваемая украшению поверхностей, позволяет всему обществу сгнить на корню. Он предположил, что украшение поощряет пороки, скрывая их; орнамент был соблазнительным соучастником многих преступлений века »(41).
9 С этой точки зрения монография Харриса поднимает интригующие вопросы, касающиеся обывателей и модернистов, например, при сравнении использования в тексте «домов, заполненных странными предметами» культовой модернистской писательницей Вирджинией Вульф и ее современником. , Элизабет Боуэн, которую, с другой стороны, обычно относят к категории средних (ср.Скромный; Боман). В интерпретации Харрис, в то время как Вульф «сформулировала свой собственный модернистский проект в терминах бегства от беспорядка, открытия окон в забитых, герметичных домах» и, таким образом, «документирует борьбу за власть между объектами и их владельцами, борьба достигает своего сверхъестественного апогея в работа… Элизабет Боуэн. Ее объекты становятся властными и мстительными: они бдительны, они носят выражения и не уступают своим владельцам »(56). Излишне подчеркивать, насколько важны безделушки буржуазного домашнего пространства в построении текстового пространства средней руки.Боуэн, однако, находит новое применение атрибутам домашнего пространства: как утверждает Харрис, «Боуэн восхищается амбициями домов без трещин, домов, в которые вход осуществляется публично через парадную дверь и где негде спрятаться. В то же время она чувствует сильное искушение прокрасться через черный ход и питаться убранством английских вилл »(57), и она также« провела большую часть своей писательской жизни, воображая эти архитектурные релизы и сдерживание как причины (и симптомы) различных эмоциональных недугов ее героев (57).Следуя этому аргументу, нетрудно увидеть, что использование объектов Боуэном не очень далеко от того, как их использует модернист Вульф, « вызывая клаустрофобию » (56) — элемент, который также делает различие между модернизмом и средним разумом. очевидно, чем считалось долгое время.
10 Монография Кьяры Бриганти и Кэти Мезеи Внутренний модернизм, роман межвоенного периода и Э. Молодой (2006), кажется, суммирует в парадоксальном (или, возможно, долгое время, возможно, даже почти оксюмороническом) синтагме основные проблемы, обсуждаемые здесь, касающиеся модернизма и среднего уровня, в том, что в какой-то момент авторы называют « Битва домашнего хозяйства и Современный »(33).В отличие от сосредоточения Харриса на художниках всех мастей, Domestic Modernism интерпретирует литературные тексты и выполняет двойной ход: он не только читает среднестатистическую домашнюю жизнь с точки зрения модернизма и с точки зрения модернизма, но также читает тексты модернистских авторов ( как Вирджиния Вульф Между деяниями , Годы , Путешествие ) с точки зрения среднего и домашнего женского начала, и намерение не состоит в том, чтобы вписать эти тексты в дискурс реализма как что, используя Кэтрин Термин Бельси я бы назвал декларативными текстами; Напротив, они намерены открыть эти текстовые пространства для подрывного прочтения.Исследуя в равной степени значение дома, священников и общежитий (то есть некоторых мест, которые конструктивистский модернизм склонен отрицать как пространства морального вырождения и порока), Бриганти и Мезей также исследуют, как эти модернистские тексты запоминают свое собственное (домашнее) прошлое или их укорененность в (домашнем) прошлом. В моем понимании это момент культурной саморефлексии, который явно идет вразрез с некоторыми модернистскими лозунгами, такими как « сделай это новым » Эзры Паунда или довольно резким разрывом Вульфа с материалистическими эдвардианцами, тогда как он, безусловно, решает проблемы, которые находятся в центре внимания недавние критические дискуссии о литературе 1930-х годов, будь то модернистская или обывательская.Бриганти и Мезей находят этот период похожим на период появления романа, утверждая, что «подобно условиям, которые способствовали возникновению романа в восемнадцатом веке, межвоенный период также испытал одомашнивание, феминизацию и приватизацию». общества »(2).
11 В этом отношении книга Ины Хаберманн Myth, Memory and the Middlebrow: Priestley, du Maurier and the Symbolic Form of Englishness (2010), кажется, сближает линии предыдущих монографий, упомянутых, фокусируясь на посредственности, на ностальгии, на память о мифическом прошлом и мифологизированном настоящем, а также об идеологических значениях всего этого.Ее теоретические предположения:
во-первых, что понятие англичаности имеет мифическое измерение, выходящее за рамки «простых» культурных стереотипов; во-вторых, эта идентичность неразрывно связана с различными формами памяти; и, в-третьих, для исторически конкретного анализа крайне важно обращать внимание на то, как СМИ формируют представления и вопросы англичаности. (2)
12 Она исследует англичаность межвоенного периода как «символическую форму, созданную взаимодействием различных видов мифотворчества и памяти и распространенную в медиализированной форме для формирования культурного воображения сообщества» (2).С этим намерением Хаберманн не только участвует в диалоге с недавним критическим интересом к «воображаемым сообществам», как это концептуализировал Бенедикт Андерсон, и «культурной памяти», как обсуждает Ян Ассманн, но также возвращает нас к тому, с чего начался этот обзор: на концепцию буржуазного интерьера Джулии Прюитт Браун как воображение — и память о безопасности, которая в этом смысле, очевидно, является не только физическим пространством, но также текстовым и культурным пространством, (воссозданным) и (повторно) исследованным в период середины войны в результате того, что к настоящему времени кажется неоспоримым и неделимым сосуществованием и взаимным влиянием модернизма и обывателей.
Екатерина Бернар
13 Сегодня я намерен не предлагать подробную карту всех критических эссе, опубликованных по британской художественной литературе за последние двадцать лет, а, скорее, выделить то, что я считаю недавними изменениями в коллективном подходе к этому конкретному корпусу.
14 В последнее время опубликовано огромное количество монографий по конкретным авторам. Пэлгрейв Макмиллан, например, инициировал серию «Новая британская фантастика» под редакцией двух лучших специалистов в этой области — Филипа Тью и Рода Менгама, — которая представляет собой введение в ключевые фигуры современной британской фантастики: от А.С. Байетт Яну Макьюэну, Ханифу Курейши, А. Л. Кеннеди или Салману Рушди. Особо следует упомянуть вдохновляющее введение Питера Чайлдса: Contemporary Novelists. Британская художественная литература с по 1970 год и букваря, опубликованного Ником Реннисоном для Routledge в том же году: Contemporary British Novelists , включая около пятидесяти кратких представлений широкому кругу авторов, от Мартина Эмиса до Джона Ланчестера, Шены Маккей, Говарда Якобсона, Тибор Фишер и др.
15 Я не буду подробно останавливаться на различных сборниках интервью современных романистов, недавно опубликованных вслед за основополагающим сборником под редакцией Джона Хаффендена, Романистов в интервью (1985), хотя они очень часто предлагают чрезвычайно поучительные открытия на произведения писателей.Достаточно упомянуть: Филип Тью, Фиона Толан и Ли Уилсон, Writers Talk: Интервью с современными британскими писателями и наша коллега Ванесса Гинери, Романисты в новом тысячелетии: беседы с писателями . Беглого взгляда на выбор включенных авторов достаточно, чтобы проинформировать нас об эволюции корпуса и канона. В 1985 году Джон Хаффенден уже играл Мартина Эмиса, Яна Макьюэна и Салмана Руши, но в него также входили известные писатели предыдущего поколения: Анджела Картер, Малкольм Брэдбери, Уильям Голдинг, Айрис Мердок или Дэвид Стори.В список Тью входят: Кейт Аткинсон, Джонатан Коу, Джим Крейс, Дэвид Митчелл, Грэм Свифт, а также Мэтт Торн и Тоби Литт. Ванесса Гиньяри, со своей стороны, создает то, что можно определить как синтез с такими авторитетными писателями, как Дэвид Лодж, оставляя место для более молодого поколения с Уиллом Селфом и Арундати Роем.
16 Таким образом, эти общие книги следует рассматривать как критерии, с помощью которых можно измерить изменяющийся канон, подобно долгожданным выпускам серии Granta «Лучшие из молодых британских романистов», серии, которая была начата в 1983 г. 7 журнала (тогда Granta 43 в 1993 году и Granta 81 в 2003 году) только что вышел четвертый выпуск «Лучшие из молодых британских романистов» ( Granta 123).В нем двадцать имен, среди которых Зэди Смит, Сара Холл или Адам Тирлвелл, а также целый спектр новых голосов, некоторые из которых еще не получили полного признания. Коллекция представляет собой яркий набор голосов, говорящих из самых разных культур, не только с индийского субконтинента, но также из Африки (Тайе Селаси и Хелен Ойеми, обе нигерийского происхождения) и Китая (Сяолу Го). Это еще один показатель того, насколько «британская художественная литература» превратилась в мировую художественную литературу и позиционируется и продается как таковая, о чем Маделена Гонсалес обращается ниже.Здесь я хотел бы подчеркнуть, насколько сложно сегодня говорить о «британской литературе» как таковой в культурной среде, которая становится все более глобализированной.
17Такой сложный поворот отмечен во многих недавних эссе, посвященных современной британской художественной литературе, и теперь я хотел бы перейти к тому, что будет моим главным аргументом в пользу этого круглого стола.
18 Первая волна монографий, посвященных этому корпусу, уделяла особое внимание «постмодернистскому» характеру синтеза, достигнутого британской художественной литературой, между саморефлексией и стойкой верой в способность художественной литературы воплотить реальность.Как вы все знаете, такие люди, как Линда Хатчон ( A Poetics of Postmodernism, , 1988) или Элисон Ли, учившаяся у Хатчона, много говорили об «историографическом метафизическом» уклоне работ Грэма Свифта, Аласдера Грея. или Джулиан Барнс (см. Элисон Ли, «Реализм и власть. Постмодернистская британская фантастика, »).
19Но довольно скоро при ином прочтении этого канонизированного круга писателей было решено реконструировать тексты этих текстов, чтобы сосредоточиться на отношении Британии к ее собственной истории и чувстве культурной самобытности.Я думаю здесь о новаторских эссе Стивена Коннора, Английский роман по истории (1995) или тома 12 Оксфордской истории английской литературы, Последний из Англии? , Рэндалл Стивенсон. Похожий подход был разработан Анджеем Гасиореком в «Послевоенной британской фантастике ». Реализм и после (1995).
20 Во многих последующих эссе также развивался аргумент, что постмодернистская саморефлексивность может обеспечить форму эстетического и этического рычага, позволяющего художественной литературе исследовать изменяющееся и сложное чувство коллективной идентичности, или то, что Ричард Брэдфорд определяет в последней главе своей книги. эссе, Роман сейчас.Современная британская фантастика , как артикуляция «нации, расы и места».
21 Очерки Коннора и Брэдфорда открыли новые перспективы и новые возможности для согласования прочтений, которые до сих пор казалось трудным объединить: то есть поэтический и формалистический подход, делающий упор, например, на игривую интертекстуальность большей части современной британской художественной литературы (от Экройда до Сара Холл) и озабоченность художественной литературы ее идеологической и исторической значимостью и подотчетностью.Таким образом, они основывались на важном труде Маргарет Сканлан, Следы другого времени: история и политика в послевоенной британской художественной литературе (1990).
22Такая связь лежит в основе многих эссе, недавно посвященных именно тому, как художественная литература исследует противоречивую идентичность Британии и ее связь с национальным нарративом, поскольку она построена на самой художественной литературе и каноне. Я имею в виду эссе Элизабет Хо «Неовикторианство и память об империи », а также эссе нашего коллеги Кристиана Гутлебена, написанное в сотрудничестве с Мари-Луизой Кольке, Neo-Victorian Gothic , которое основано на Кристиан Гутлебен занимается исследованием политики интертекстуальности.Но это также верно и в отношении анализа, обращающегося к «окраинам» британской художественной литературы, и того, как шотландская и ирландская художественная литература развивают контристории: см. Недавнюю работу Стефани Ленер Subaltern Ethics in Contemporary Scottish and Irish Literature . Как показывает заимствование метафоры подчиненного из постколониальных исследований, акцент все больше смещается на множественность голосов и повествований в британском культурном контексте, который стал не столько критическим, сколько множественным.
23 Этот аргумент также является центральным в недавней работе Хьюела Дикса «Постмодернистская фантастика и распад Британии ». В своем эссе Дикс исследует то, что он называет «вездесущим подарком», что лучше всего иллюстрирует книга Джонатана Коу « The Rotter’s Club » (2001), которая проистекает из плюрализации британских этносов и политики деволюции. Акцент на деволюции является лишь внутренним перегибом более широкого «постколониального затруднительного положения», в котором «распуталась сама британскость» (157).
24 Такой культурный поворот, который использует постмодернистскую саморефлексивность для анализа меняющихся коллективных факторов, может объяснить особый упор на городской роман и на то, что Дэвид Джеймс определяет как «артистизм пространства» в своей книге 2012 года. Я думаю здесь о томе под редакцией нашего коллеги Филиппа Лапласа, Города на окраине, На окраине городов: Представление городского пространства в современной ирландской и британской художественной литературе , и очень поучительном эссе Себастьяна Гроза The Making of London : Лондон в современной литературе .Гроус решает вернуться к мотиву культурного плюрализма, акцентируя внимание на том, что он называет процессом культурного рассредоточения, который имеет отношение к психогеографии города, лучше всего иллюстрируемой Яном Синклером.
25 Прежде всего, такое рассредоточение или множественность нельзя отличить от поэтического влияния мультикультурализма, которое заметно проявляется в трех эссе: «Космополитизм в современной британской художественной литературе» Фионы Маккалох, «Послевоенная британская литература и постколониальные исследования » Грэма МакФи и Трейси Дж.Князь Культурные войны в британской литературе . Все трое настаивают на повышенной текучести идентичности, а также на способности художественной литературы уловить эту текучесть в текстах, которые постоянно ставят под сомнение установленные категории культурной идентичности, унаследованные от культурных структур. Эти эссе, таким образом, показывают, как много можно узнать, читая британскую художественную литературу, с более глобализированной точки зрения, а именно с точки зрения мировой литературы, как утверждает Маделена Гонсалес.
26Последний элемент, который я хотел подчеркнуть, — это то, как такие размышления влияют на саму этическую повестку дня британской художественной литературы.Лучше всего это показано в двух томах Жана-Мишеля Ганто, отредактированных совместно с Сюзаной Онегой. Эти два тома еще раз свидетельствуют о сложной запутанности поэтики / политики и этики художественной литературы, феноменологии чтения, связанной с размышлением о его политической ответственности.
27 В заключение, недавние эссе, посвященные британской художественной литературе, пришли к признанию сложного и тонкого взаимодействия формальных экспериментов с обновлением политической и этической повестки дня художественной литературы в британской культуре, которая становится все более глобальной и постоянно нарушает собственное чувство коллективной памяти.Подведение итогов такой критической эволюции имеет решающее значение, когда дело доходит до понимания диалога, в котором британская фантастика развлекает множественные голоса сложного культурного ландшафта.
Маделена Гонсалес
28 Приведенная здесь библиография посвящена трем взаимосвязанным категориям современной критической мысли. Новый акцент на глобализации как призме для изучения литературы и культуры идет рука об руку с подверганием сомнению постколониальной парадигмы и попыткой переконфигурировать ее под эгидой критиков, которые имеют признанную принадлежность к постколониальным исследованиям (Аня Лумба, Бенита Парри) .Хотя возобновившийся интерес к возвращению к эстетике, нашей третьей категории, поначалу может показаться дополняющим эти позиции, работы, обсуждаемые в этой категории, очень часто позиционируются как реакция на то, что их авторы считают доминирующим критическим консенсусом, основанным на марксистских, материалистических взглядах. , феминистский, постколониальный, постструктуралистский и деконструктивный подходы и, по крайней мере, в англоязычном академическом мире, сгруппированные под общим термином Теория или иногда даже «Французская теория».
29Критик-марксист и профессор сравнительной литературы Тимоти Бреннан одним из первых в своей области обратился к глобализации как к призме нашего понимания современной культуры. Как следует из названия обсуждаемой здесь работы, Бреннан реконфигурирует глобализацию как форму космополитизма и связывает ее с колониализмом как одной из гегемонистских форм, с помощью которых метрополии и колониальные государства оправдывают распространение своей власти.Он проводит марксистско-материалистический анализ космополитизма, предполагая, что нынешний акцент на гибридности, транснационализме и глобализации как позитивных векторах развития замешан в американской модели культурного империализма и капитализма. Ссылаясь на эклектичный набор культурных источников и моделей от кубинской музыки до произведений К.Л.Р. Джеймс, он выступает за возврат к ценностям сообщества и чувству коллективной идентичности. Его исходный материал используется не столько для того, чтобы обеспечить постоянное критическое прочтение, сколько чтобы служить предлогом для нападок на то, что он считает доминирующим критическим способом культуризма и столичной нормой, поскольку, как он утверждает, культурология оставляет U.С. национальное чувство превосходства в значительной степени не затронуто.
30Одна из самых сильных глав посвящена академическим публикациям. Бреннан обсуждает то, как писатели третьего мира входят и принимаются в рамках академического канона США, иллюстрируя механизмы присвоения и коммодификации их работ. Как и многие другие марксистски ориентированные критики, он стремится сделать видимыми господствующую идеологию и роль, которую академики играют в распространении и формулировании идеологии.В заключение он призывает к «новому компаратизму», который означал бы организацию знаний в терминах различных подспециализаций в рамках национальных литератур, что обсуждается авторами сборника статей под редакцией Хауна Саусси (см. Ниже). В конечном итоге Бреннан предлагает противостоять «универсализирующему импульсу гегемонистских форм космополитизма» с помощью интернационализма в духе Грамши.
31Отделяемое четырнадцатью годами от работы Бреннана исследование Лиама Коннелла и Ники Марш задумано как «руководство по изучению характера вклада литературы в дебаты о значении глобализации в широком и неоднородном разговоре».Одна из серии работ, опубликованных Routledge под названием «Читатели» и предназначенных для студентов и аспирантов, а также ученых, она включает в себя сборник статей, уже опубликованных за последние двадцать лет, по вопросам экономики, социальных наук, географии и т. Д. антропология, история, политическая теория и философия, а также более конкретные исследования литературы, авторами которых являются признанные специалисты в своих соответствующих областях.
32 Разделенный на три части: «Теоретизация глобализации», «Литература в дисциплине» и «Литературные чтения», том действительно выполняет свое стремление дать «обзор теории и влиятельных работ в этой области», но первая часть, например, скорее помещает явление, чем определяет его.Проблема, по-видимому, заключается в изобилии литературы по этой теме, а сокращенные отрывки, выбранные редакторами, имеют тенденцию приводить к ряду противоречивых гипотез о том, чем на самом деле может быть глобализация.
33 Литературные чтения сгруппированы по тематическим подразделам, организованным вокруг ключевых слов, используемых литературными критиками: «защита окружающей среды», «деньги и рынки», «технология и киберкультура», «миграция и труд», «мирское» и «космополитизм», которым предшествуют начальное теоретическое эссе в каждом подразделе.Однако эти эссе, хотя и актуальны сами по себе, чаще всего слабо связаны с тем, что следует, а иногда выражают очень конкретную политическую повестку дня, не совсем согласующуюся с другими статьями в разделе. Как признают редакторы, некоторые эссе можно было бы с удовольствием разделить на другие подгруппы … Обоснованием этого метода работы является открытость и гибкость обширной области текущих исследований, но недостатком является то, что читатель остается в беспорядке противоречивые определения, мнения и гипотезы.
34 Выделяются несколько эссе, например, толкование Фредриком Джеймсоном романа Вильяма Гибсона, Pattern Recognition , где читатель находит исходную концепцию «воображаемого e bay» («стиль превратился в раздутое название« капля »), а также а также «отсутствующее утопическое возвышенное» из «романа, несущего в себе нереализованное произведение искусства, как черная дыра, неопределенность будущего, внезапно мерцающая в настоящем и внезапно открывающаяся, как червоточина в повседневности».Также заслуживает внимания страстный призыв Брюса Роббинса к марксистски настроенному интернационализму или «международной популярности» (чтобы заменить всемирную популярность), напоминающий призыв Бреннана к интернационализму вместо элитного космополитизма. Посредством чтения Лоджа Nice Work и карикатуры в The New Yorker он изобретает концепцию «возвышенного потогонного мастерства», которая объясняет первоначальный всплеск силы, ощущаемый индивидуальным потребителем, связанным с мировой экономической системой невероятного размах, за которым следует осознание того, что, несмотря на эту связь, он бессилен вмешаться в какой-либо значительной мере: «внезапный стремительный доступ к глобальному масштабу — это не доступ к соизмеримой силе действий в глобальном масштабе.У вас есть чашка чая или кофе. Ты оделся. Так же внезапно, столь же шокирующим образом вы возвращаетесь к себе во всей нашей повседневной мелкости ».
35 В целом, том характеризуется культурной теоретической парадигмой, основанной на сексуальной идентичности, гендере, расе и исторической контекстуализации, и не затрагивает непосредственно вопрос о том, как глобализация могла повлиять на литературную эстетику. Для авторов нашей третьей категории это можно интерпретировать как проявление тенденции к преобладанию культуры над литературой в том, что касается деятельности критики, по крайней мере, в англоязычной академии …
36Одна интересная особенность — большое количество вкладов ученых-сравнителей, таких как Масао Миёси, Франко Моретти и Эмили Аптер, — аспект, который ставит под сомнение продолжающееся влияние нации как структуры для изучения литературы. также центральное место в томе Сосси.Если на практике многие ученые, работающие на факультетах английской литературы, изучают литературу многих стран, тенденция к организации литературы по национальным группам остается доминирующей моделью для литературоведения. Редакторы тома признают, что, «хотя толкование глобализации как фазы постнационализма может быть унизительным, сохранение национальных моделей литературного исследования послужило препятствием для рассмотрения глобализации как важной идеи». Эссе Эмили Аптер «Непереводимый Алжир»: политика лингвицида »перекликается с ее вкладом в« Сравнительную литературу в эпоху глобализации »Сосси, в которой она защищает концепцию Шамуазо о« омнифонии », смоделированном как условие« всеязычности ». после народного экспериментирования Рабле, Данте, Джойса, Фолкнера, Малларме, Селин, Франкетьена и Глиссана.В своем обсуждении фетишизации политики различий и своего желания реактивировать эстетику она, кажется, близка к более поздним Саиду и Спиваку и их концепциям «расширенного мирского» (Саид) и «планетарного компаратизма» (Спивак). который включил бы все предыдущие модели, такие как постколониальные.
37 Дебаты относительно обоснованности компаратистской парадигмы критики и категории мировой литературы также присутствуют в эссе Моретти, первое из которых переиздано у Коннелла и Марша и резюмируется в его последующей книге, в которой приводятся те же аргументы.Моретти отвергает внимательное чтение как богословское упражнение и защищает то, что он называет «дистанционным чтением», используя вдохновленный Лотманом социологический формализм, который «позволяет вам сосредоточиться на единицах, которые намного меньше или намного больше, чем текст: приемы, темы, образы — или жанры и системы ». Обращаясь к широкому кругу примеров — от традиционной японской литературы до современного африканского романа на английском языке, Моретти представляет мировую литературу как структуру связи, модульного повторения и исследует сложные культурные обмены между центром и периферией, чтобы сделать вывод, что « мир литература действительно была системой, но системой вариаций », подтверждающей неравенство мировой литературной системы в целом.Критикуемый за практику «формализма без внимательного чтения», Моретти с радостью принимает это определение, которое созвучно его общей философии компаратизма: «вы становитесь компаратистом по очень простой причине: потому что вы убеждены, что эта точка зрения лучше. Он имеет большую объяснительную силу; он концептуально более элегантен; он избегает этой уродливой «односторонности и ограниченности»; что угодно. »
38Суман Гупта рассматривает тему мировой литературы как переориентацию сравнительного литературоведения и, «возможно, даже компонент изучения английского языка», и определяет «идею институциональной практики литературных исследований, которая все чаще описывается не лингвистическими или национальными нормами, а термины обширной области литературы, которая является, по крайней мере, концептуально всеобъемлющей ».При этом он дает проницательный критический анализ некоторых теорий мировой литературы, в первую очередь теории Моретти. Общая цель Гупты — показать, как «глобализация тематизируется в литературных произведениях, взаимосвязь между теорией глобализации и литературной теорией и влияние глобализации на производство и восприятие литературных текстов». К сожалению, но неудивительно, что, учитывая важность, придаваемую слову «тематический», первичные источники, выбранные для тщательного анализа, «Дети полуночи» Рушди , , «Космополис » Де Лилло и « суббота » Макьюэна, среди прочих, не дают результатов. любые подсказки относительно эстетики глобализации в литературе, хотя они позволяют автору проследить широкую тематическую связь с феноменом как мировой системой.
39Гупта наиболее проницателен и новаторски в двух последних главах, «Академические институциональные пространства» и «Глобализация литературы», которые иллюстрируют его двойную компетентность как профессора литературы и истории культуры. Они предлагают хорошо изученный и убедительно теоретизированный социологический подход к таким вопросам, как текущее положение и будущее развитие англоязычных исследований в условиях глобализированной литературной экономики, а также статус, маркетинг и даже «производство» современных авторов из Дона Делилло. Дж.К. Роулинг. Исследование влияния оцифровки и развития Интернета на издательское дело, которым завершается исследование, имеет тенденцию усиливать уже знакомые определения глобализации, изложенные во вводной главе, то есть те, которые рассматривают это явление как проявление всеобщее господство рыночного капитализма на его развитой стадии. Однако Гупта, надо отдать ему должное, внимательно изучает множественные употребления и злоупотребления этим термином, который, как он утверждает, «теперь доступен как одно из самых разнообразных и сильно коннотативных слов в нашем языке».
40 Введение Сьюзи О’Брайен и Имре Семан к специальному выпуску журнала South Atlantic Quarterly , посвященному «Глобализация художественной литературы / Художественная литература глобализации», способствует дискуссии о жизнеспособности национальной литературы как концепции в глобализированном мире. и утверждает, что англоязычная литература, в частности, всегда была глобализованной. По мнению авторов, как постмодернизм, так и постколониализм «более или менее явно затрагивают отношения между литературой и глобализацией».Фактически, они считают, в согласии с Саймоном Гиканди, одним из авторов выпуска, а также автором эссе в О’Коннелле и Марше, что «появление постколониальной литературы знаменует собой появление глобальной культуры», что постколониальный романы — это «романы глобализации», и что постмодернизм является частью культурной логики глобализации. В то же время они осознают возможные ловушки этого «уравновешивающего маневра», который может ослабить критический импульс постколониализма; действительно, они указывают на ослабление его политической подоплеки и способности критически позиционировать себя по отношению к глобализации, поскольку она становится частью западной академии.Обращая внимание на опасность восприятия глобализации как просто «неоимпериализма»: чего-то нового, но не отличающегося по сути от более ранних моментов глобальной капиталистической экспансии и эксплуатации, они надеются, что конфронтация между «постколониализмом» и «глобализацией» приведет к переосмыслению всего отношения современной культуры к власти и политике. Они предполагают, что постколониальные исследования как дисциплина до сих пор не учитывают условия глобализации, а также не признают некоторые из ограничений того, что они называют западными культурологическими прочтениями, и стратегическое молчание в постколониальной науке о ее собственном влиянии на сети глобального капитала. .Этот специальный выпуск задуман как возможность заполнить пробелы и примечателен тем, что непосредственно касается сложного явления глобализации по отношению к художественной литературе.
41 Подвергание сомнению традиционной постколониальной парадигмы из-за этого чувства неудовлетворенности ее сохраняющейся актуальностью составляет нашу вторую категорию. По мнению Ани Лумба и др. , постколониальные исследования только сейчас могут критиковать себя, потому что они стали дисциплиной в университетах.Предложение, сделанное несколькими авторами во введении, состоит в том, что это может действительно быть исчерпанной парадигмой: «есть ли у него будущее за пределами существующей продолжительности жизни, которую Вилашини Куппан в этом томе определил как период из книги Эдварда Саида Ориентализм (1978). ) до Майкла Хардта и Антонио Негри «Империя , » (2000)? »Похоже, восходящая траектория тома указывает на то, что это так, поскольку он ведет нас от« Глобализации и постколониального затмения »в первой части к« Постколониальные исследования и дисциплины в трансформации ». ‘в последней главе.Как и О’Брайен и Семан, авторы утверждают, что «строгие оценки ограничений постколониальной парадигмы» открывают пространство для широкого и продуктивного будущего в области, претерпевающей настоящие преобразования. Заключительное эссе тома «Политика постколониального модернизма» предлагает путь вперед через возврат к эстетическим проблемам. Его автор Нил Лазарус предлагает термин «безутешность» (431) для описания определенного типа письма, «которое сопротивляется приспособленчеству того, что было канонизировано как модернизм, и которое делает по крайней мере то, что некоторые модернистские работы сделали с самого начала: а именно: , говорит «нет»; отказывается от интеграции, решимости, утешения, комфорта; протестует и критикует ».Он предлагает перерисовать постколониальную карту с помощью трансцендентальной критики, способной «определить концептуальные основы определенного типа письма, определенного типа литературной практики » и, таким образом, сформулировать новую теорию постколониальной литературы. Это сложная задача, но она вызывает оптимизм, позволяя читателю начать проектировать себя в «потустороннее», о чем свидетельствует название тома.
42 Ревати Кришнасвами и Джон К.Коллекция Хоули, The Postcolonial и Global , повторяет многие вопросы и опасения Лумбы и др. , а также О’Брайена и Семана; цель, опять же, состоит в том, чтобы предложить путь для постколониальных исследований, которые сейчас находятся на распутье, если верить редакторам. Они указывают на то, что постколониализм и теория глобализации до сих пор развивались раздельно, в области гуманитарных наук в случае первых и социальных наук в случае вторых; таким образом, они считают, что срочно необходимо тщательно изучить связи между ними и предложить эту книгу как повод для поиска общего дела.Однако, как и О’Брайен и Семан, они исходят из посылки, что «быть глобальным — это прежде всего постколониальное, а постколониальное — всегда уже быть глобальным». Эта предполагаемая историческая конвергенция, частично основанная на том, что они считают « общей грамматикой » рассматриваемых явлений, напрямую отсылает к предложению Саймона Вулла (1998) о том, что глобализация является категорией, которая вытеснила постколониализм, и его последующим утверждением диалектического отношения между два.Эта диалектика исследуется на точных и уместных примерах из кино и художественной литературы в эссе Хариша Триведи и Джона Макмерти, но она также является частью самого обоснования всей книги в целом. Его рабочий принцип — это противопоставление, проиллюстрированное разнообразием вкладов внутри и за пределами дисциплины, от исследования глобальной технонауки Джоффери Боукера до обсуждения Э. Сан-Хуаном-младшим постколониального возвышенного, проявленного в войне с террором после 11 сентября. и сопутствующие ему эмоции страха и трепета.Как и другие работы в рассматриваемом здесь корпусе, этот том как апеллирует, так и ставит под сомнение компаративистский подход. Для создания « критических сравнительных исследований » продуктивная конфронтация между исследованиями постколониализма и глобализации считается необходимой, а реалистичная оценка ограничений и недостатков постколониальных концепций сравнения предназначена как стимул для переосмысления возможностей сравнения. . Эссе Эллы Шохат и Роберта Стэма «Культурные дебаты в переводе», например, иллюстрирует осторожность в отношении эмпирического плюрализма, который обеспечивает мельницу мультикультурализма и алиби глобальному капитализму.
43 Эта саморефлексивная и самокритичная тенденция проявляется в значительной части современной постколониальной критики и в проявлении недомогания, впервые обнаруженного в результате нескольких анализов, вдохновленных марксистами. Еще в 1994 году Ариф Дирлик написал яростную критику академической институционализации постколониальных исследований и молчания критиков относительно отношения постколониального капитализма к современному, в то время как Арун Мукерджи (1990) указал на то, что он считал «собственническими тенденциями» и «тотализации», осуществленные постколониалистами, склонными к ассимиляции и гомогенизации литературы «в рамках« евроцентрической культурной экономики ».Что касается Айджаза Ахмада, то в 1995 году он постановил, что «постколониальность также, как и большинство вещей, является классовым вопросом».
44 Последняя монография Бениты Парри в значительной степени представляет собой переработку более ранних работ, опубликованных в этой области между 1987 и 2004 годами, и, как таковая, увековечивает и подчеркивает эту марксистско-материалистическую традицию инакомыслия по отношению к постколониальной ортодоксии, хотя она принимает более уступчивую и менее подходящую полемическая позиция по отношению к объекту исследования. Подчеркивая необходимость изучения политических и экономических условий культурного производства и призывая к исторически обоснованному анализу литературных явлений, она остается верной идее глобального освободительного проекта и обновленного интернационализма.Чтобы продемонстрировать ее теоретическую позицию, изложенную в первой части «Направления и тупики в постколониальных исследованиях», ее вторая часть «Имперское воображаемое» представляет собой подробные текстовые и контекстные прочтения известных романов Конрада, Киплинга, Форстера и других авторов. Уэллс. В заключение она напомнила о своей родной Южной Африке в период ее постапартеида и о необходимости сочетать воспоминания о прошлых историях несправедливости с критикой нашего современного положения как средства работы в направлении всеобщего освобождения.
45 Провокационный вклад Терри Иглтона в дебаты, на первый взгляд, является более антиутопическим и явно более язвительным в его отношении к тому, что он считает институционализированным критическим консенсусом. Постколониализм обвиняется в безудержном культуризме, а Теория в целом подвергается критике как «форма искусства меньшинства». . . прибежище лишенного наследства западного интеллекта, лишенного своей традиционной гуманистической основы ». Этот любопытный поворот или даже эпитафия для его предыдущих позиций, исходящий от лица, ответственного за распространение теории в академических кругах в течение последних двадцати лет, по иронии судьбы, близок к некоторым из наиболее крайних отрицаний и опровержений империи теории, которые будут обсуждаться. в нашем третьем и последнем разделе.Первая половина книги представляет собой подробный критический анализ постколониализма, который автор с удовольствием объединяет с постмодернизмом и в более общем плане с тем, что он называет «теорией культуры». Этот трехголовый зверь обвиняется в том, что он поглотил наше чувство истории и свободы воли, подчиняя их одержимости этнической принадлежностью, различиями и, прежде всего, политикой идентичности, а не классовой политикой. Во всех смыслах культурный образ мышления критикуется как соучастник капиталистической модели. Например, то, что автор считает модной одержимостью сексуальностью и популярной культурой, является лишь частью более «хитроумного потребительского капитализма», который помогает нам отождествлять нашу удовлетворенность с выживанием системы.Для Иглтона столь широко отстаиваемая нестабильность идентичности и ее постколониальные коннотации радикальной подрывной деятельности, плюрализм, который она поддерживает, являются просто камуфляжем для несправедливых реалий классового общества и частью инклюзивного кредо капитализма, стремящегося соединить вместе как можно больше разнообразных культур, насколько это возможно, чтобы он мог продавать свои товары им всем ».
46 Достигнув четвертой главы «Убытки и выгоды» и выдержав безжалостную атаку автора на все «посты», читатель с нетерпением ждет выхода из детерминированного тупика великого повествования о капиталистической глобализации, которое рассматривается как охватывая всю интеллектуальную жизнь.Когда-то сведя счеты, книга меняет курс, а оставшиеся две трети принимают метафизический поворот, чтобы, наконец, предложить то, что напоминает мягкую форму гуманистического социализма как противоядие от фундаментализма во всех его проявлениях и « смерти — идеология воли ». Вывод одновременно несколько расплывчатый, призывающий к критике «рискнуть рукой, вырваться из довольно удушающей ортодоксальности и исследовать новые темы», а также неожиданно утопический: «Небытие в основе нас — вот что нарушает наши мечты и недостатки наших проектов.Но это также цена, которую мы платим за шанс на светлое будущее. Таким образом мы сохраняем веру в открытую природу человечества и, таким образом, являемся источником надежды ».
47 Отказ Иглтона от грандиозного повествования теории и того, что он считает сопутствующими небольшими повествованиями о постколониализме, постмодернизме и постструктурализме, перекликается с другим направлением современной критики, хотя и по другим причинам. Растущее стремление к возвращению к эстетике явно прослеживается в работе противников того, что считается ортодоксией Теории (Брэдфорд, Каннингем, Лентриккья, Патай и Коррал), а также в работе ключевых фигур в самом сердце постколониального Исследования.Никто еще не сделал для постколониализма то, что Линда Хатчон сделала для постмодернизма, то есть развила ясную поэтику и эстетику дисциплины, как, действительно, отмечает известный специалист в этой области Эллеке Бёмер: «Второе издание Routledge . Читатель постколониальных исследований (Эшкрофт и др. , 2005) обычно относит постколониальное представление в обязательном порядке к «проблемам и дебатам»: глобализация, окружающая среда, сопротивление, диаспора. Нет явного упоминания об эстетическом различимости ».
В статье48 делается попытка устранить этот недостаток. Она берет в качестве примеров три художественных произведения, которые, казалось бы, легко идентифицировать как постколониальные: роман Ахмата Дангора после апартеида Горькие плоды (2003), Дом Манджу Капура (2006) и Ивонн Вера Каменные девы (2002), действие которых разворачивается во время гражданской войны в Зимбабве в 80-е годы, и начинается с четкого определения: «Я использую термин« эстетика »в широком смысле как относящийся к озабоченности формой и структурой произведения искусства над его исходным содержанием или формой как критическая часть его содержания ».Анализируя свой корпус за пределами чисто национальной матрицы и пытаясь интерпретировать каждый роман «на его собственном языке» как «текст в себе», она обращает внимание на общие аспекты и коннотативный язык исследуемых произведений и определяет общие и отличительные черты. Режимы и настроения: повторное сновидение и повторное мифологизация посредством магического реализма, прощания и траура, и, прежде всего, подрыв языка изнутри. Однако перед лицом сложной задачи «изолировать общие эстетические черты, которые могут вызвать ярлык постколониального», она в конечном итоге возвращается к гибридности и ее бхабхайскому наследию.В целом Бемер демонстрирует виноватую осторожность в отношении эстетики как «снисходительность среднего класса» и откровенно говорит о трудности выхода из «постколониального противостояния эстетическому». Это приводит ее в тупик, где она признает: «Я указываю на то, что может сделать постколониальная эстетика , вместо того, чтобы определять, что это , — на самом деле, это может быть , вообще ничто», и она заключает с его окончательной непознаваемостью оставляя его окутанным тайной: «это позволяет нам допрашивать и в качестве компенсации нашим вопрошающим« я »рассказывать истории о тайне, которая является не столько Другим, вообще говоря, сколько совершенно непознаваемым другим человеческим существом».
49 Последний сборник обновленных эссе Спивака также касается игнорирования эстетики, как следует из названия, а введение демонстрирует явную симпатию к немецкой романтической и идеалистической концепции искусства как инструмента нравственного просвещения. Подчеркивая важность чувства, она защищает искусство и гуманитарные науки от глобального капитализма, и этот шаг напоминает некоторые аспекты книги Иглтона After Theory . Попав в ловушку того, что она считает постреволюционной эпохой, она выступает за «позитивный саботаж» посредством «глубокого изучения языка» и внимания к «этическому импульсу».Точно осознавая свои обязанности педагога в эпоху массовой культуры, она предлагает программу, которая «обучит умы использовать новые ресурсы в интересах гуманитарных наук» и «тренирует воображение, как в Европе 18 и 19 веков». Убежденная, что постколониальная парадигма больше не соответствует вызовам глобализации, она предлагает интересный пример пост-постколониальной эстетики в главе, озаглавленной «Чтение со Стюартом Холлом в« чистых »литературных терминах». Она выбирает типичный постколониальный текст, Ямайский Кинкейд Люси , и продолжает читать его вопреки здравому смыслу, сосредотачиваясь на отсутствии связи, показываемой его доминирующим способом паратаксиса, и различая в нем сопротивление мультикультурной гибридизации, способной трансформировать героиню из мигрант как жертва политически уполномоченного этического агента.
50 Необходимость другого вида чтения лежит в основе отказа Лентриккья от протоколов политизированной теории литературы, которой он когда-то беспрекословно поклонялся: не обращаются к риторическим дискурсам (пишут с политическими намерениями в отношении всех нас), либо в оппозиции, либо в соучастии с действующей властью ». Его разочарование проистекает из убежденности в том, что после упадка Новой критики в 70-е годы и подъема теории литературная критика сбилась с пути и оторвалась от литературы и, прежде всего, от текста.Обеспокоенный, как и Спивак, трудностями в обучении студентов изучению литературы, он указывает как на формализм, так и на эстетику, но гораздо более расплывчато и более пылко романтично, чем знаменитый постколониальный критик. Он предлагает обращать внимание на «все, что воплощается в письме благодаря его особой форме и фактуре», а также «подчиняться тексту». . . откажитесь [от] себя, потому что вам нужно транспортироваться ». В конечном итоге его занятия представляют собой попытку «поделиться» текстом, «ощупать в темноте, а затем сообщить из темноты словами, которые описали бы встречу со странными комбинациями слов», что впоследствии породит «связную и интимный.. . окруженное сообщество ». На момент публикации в 1996 году статья Лентриккья вызвала большой шок в академическом сообществе США, но его страстный призыв вернуться к тому, что очень похоже на философию чтения Ливизита, с добавлением некоторых формалистических процедур, или даже в прелапсарианский период до появления теории, с тех пор получил почву и эволюционировал, чтобы предложить новое направление в критике.
51Ричард Брэдфорд, плодовитый автор литературных биографий и научных работ по современной художественной литературе, в своем сборнике эссе указывает путь, нацеленный на оценку влияния теории на получение степени в англоязычных университетах.Исследование, предваряемое полезной хронологической таблицей ориентиров теории, начинается с предпосылки, что теория навсегда изменила ландшафт литературных исследований. Очерки в сборнике не только затрагивают практические аспекты преподавания теории как предмета в университетах, но также исследуют будущее и обоснование литературных исследований. В своем заключении «Ненавижу ли я теорию?» Брэдфорд начинает набрасывать основные идеи для своего предстоящего исследования по вопросу о ценности в литературе, а именно: «Что такое литература, почему мы изучаем и пишем о ней и, что еще хуже, всего: как мы можем отличить важную литературу от всего остального? »Его план состоит в том, чтобы заменить то, что он считает антиэстетическим направлением теории,« уверенностью и способностью оценивать, судить и оценивать качество текстов ».
- 1 Все цитаты используются с разрешения автора.
52Брэдфорд в первую очередь прагматик и Но разве это хорошо? »предлагает нечто похожее на форму практической критики:« Основная цель этой книги — навести мосты между инстинктивным суждением и обоснованной оценкой… я сделаю так, чтобы дать читателям возможность сформулировать и сформулировать аргументы ».1 Для этого он предлагает то, что он называет «двойной схемой», которая касается «отношения между теми чертами произведения, которые являются исключительными для литературы, и теми, которые являются общими для всех других утверждений и текстов». Согласно Брэдфорду, динамика между этими двумя элементами является одновременно определяющей чертой произведения как литературы и платформой для нашей оценки качеств произведения. Процесс оценки основан на трехэтапной программе, начинающейся с «Процедур открытия»: наблюдение за двумя частями двойного паттерна и осознание их взаимодействия; «Чтение»: обдумывание и натурализация работы; перевод тех ее аспектов, которые незнакомы с самосознанием, в перефразируемое представление о том, о чем на самом деле идет работа, и, наконец, «суждение».Оценка качества должна основываться на том, как разные авторы используют двойной узор, и серия сравнительных упражнений будет включать соревнование между следующими трио великих и менее значительных литературных и культурных деятелей: Шекспир против Беккета против Коронация Street ; Филип Ларкин против Эзры Паунда против Э. Дж. Трибба; Салман Рушди против Кингсли Эмис против Тома Вулфа.
53 Метод Брэдфорда в значительной степени опирается на идеи («хорошего») вкуса, разума, инстинкта, индивидуального восприятия и даже темперамента и, как таковой, напоминает преобладавший до 70-х годов консенсус в отношении условностей чтения и понимания литературы. в большинстве британских университетов до внедрения постструктурализма на литературные факультеты.Однако его общая точка зрения далека от наивности и, помимо того, что он чутко настроен на то, как рыночные силы и академические учреждения формируют наши литературные вкусы, ценности и суждения, его предлагаемое исследование формулирует некоторые неудобные, но важные вопросы:
Можно ли распознать качество или недостатки литературных произведений, не пересматривая предвзятые представления о том, чем должна заниматься литература? Например, если вы по темпераменту и идеологически привержены эксперименту и модернизму, можете ли вы провести различие между демонстрацией мастерства и заменой мастерства случайностью? Если можете, подразумевает ли признание «умения» соответствующее признание значимости? В более широком смысле, гарантирует ли наличие явно отличного письма, что сама работа имеет большую ценность?
54 Тем не менее, настаивая на важности языка, предлагаемый вывод исследования в некоторой степени указывает на компромисс между анти- и про-теорией и, как таковой, является симптомом собственной критической идентичности автора: «литература.. . является уникальным средством примирения со средой, которая определяет нас, языком ».
55 Озабоченность возвращением к внимательному чтению, вкусу и такту характерна для каждой страницы исследования Каннингема, название которого перекликается с заголовком Иглтона, но, в отличие от его работы, опубликованной годом позже, она явно и намеренно антиполитична. Как и Лентриккья, Каннингем, профессор английского языка и литературы в Оксфорде, стремится отстаивать примат текста над теорией.Значительный отрывок из его книги перепечатан в монументальном собрании Патаи и Коррала, которое для простоты можно назвать «антитеорией». Том насчитывает более 700 страниц и варьируется от ранних проблем до того, что воспринимается как «нападение» Теории на литературоведение и практическую или формалистскую критику, автором которых являются известные академические деятели, такие как М. Х. Абрамс (1977) или Рене. Wellek (1983) к более поздним обсуждениям «Теории Империи» философом Энтони Кваме Аппиа или Марджори Перлофф.Как следует из названия тома, тон часто носит полемический характер, и введение является тому примером. Французское наследие и постструктуалистский нигилизм рассматриваются как коренные причины отказа от текста в пользу «абсурдных и нечитабельно запутанных теорий», которые превратились в новую «ортодоксию», которую только можно оспаривать под страхом интеллектуального отлучения от церкви. По мнению авторов, теория заняла «моральное и политическое превосходство», и, вслед за Де Маном, сопротивление теории само по себе является теорией, идеологической двойной связью, которая, как они полагают, рискует заставить замолчать своих оппонентов, которые в любом случае , часто называются «оторванными», «корыстными», «традиционными», «консервативными» или, что еще хуже, «реакционными».
56 Их цель — проследить развитие литературной теории с первых бурных дней полемики Пикар-Барт в 60-х годах, когда она воспринималась как «новая захватывающая область», через ее подъем в 70-е и 80-е гг. текущее проявление как то, что они считают принятой религией или «евангелием», теорией с большой буквы. Ссылаясь на вклад Веллека, они определяют многие характерные черты теории, поскольку они утверждают, что в настоящее время она применяется в англоязычных университетах.По их мнению, к ним относятся: «упразднение эстетического, отрицание референциальности, стирание границ между поэзией и критической прозой, отказ от идеальной или правильной интерпретации и вытеснение художников критиками». Одна из проблем, порожденных многими эссе в сборнике, как, впрочем, и введением, заключается как раз в объединении очень разных позиций и персонажей под общим заголовком Теория. Таким образом, марксисты, деконструктивисты и феминистки ассимилируются в постструктурализм, в то время как Деррида, Фуко, Барт, Лакан, Де Ман и Джеймсон, например, объединены в одну критическую семью.
57 Также проблематичным является противоядие, предложенное против недугов теории и тупик, в котором она якобы оказалась. Использование « открытой дискуссии », « логической аргументации », « бескорыстия », даже « интуитивного указа » вместо « загадочной риторики и жесткой терминологии » подхода, который, по мнению редакторов, выдает скудное знание формализма или его отсутствие, стилистическая критика и эстетики, они стремятся восстановить «чувство равновесия, памятуя о традициях и, прежде всего, согласуясь с разумом».Их цели действительно достойны, но перед лицом продолжающегося существования Теории сейчас кажется невозможным вести себя так, будто ее основные положения можно полностью игнорировать, какими бы сомнительными они ни казались. Эрин О’Коннор, например, завершает свое проницательное эссе о «Викториентализме» и о том, что она считает «колонизацией» Джейн Эйр , следующим предложением в отношении «постпостколониальной критики», которая будет обусловлена «честной критикой». исследование »и« достоинство »:« Будущее литературных исследований зависит от нашей готовности отказаться от застойной безопасности парадигматического мышления и серьезно искать более динамичные, менее прописанные способы чтения, письма и преподавания литературы ».Однако неясно утопическая направленность ее программы поднимает многие важные вопросы, которые остаются без ответа. Этика и идеология, например, занимают центральное место в битве между сторонниками и противниками лагерей, но в целом сборник ограничивается вялой защитой одной из форм либерального гуманизма. Неспособность решить такие ключевые проблемы напрямую мешает проекту в целом более чем эффективно «антологизировать инакомыслие», не давая ему возможности предложить какой-либо четкий контр-манифест, который, в конце концов, мог бы освободить его от двойного связывания Де Мана …
Мишель Райан-Сутур
58 Этот рассказ вызывал повышенный интерес в последние несколько лет в Великобритании и во всем мире.Этот феномен, несомненно, будет усугублен присуждением Нобелевской премии по литературе 2013 года канадской писательнице рассказов Алисе Манро. Как форма, развивающаяся на полях литературного изучения, рассказ привлекал разную степень критического внимания на протяжении всей истории литературы, а критика короткометражных художественных произведений имеет тенденцию возвращаться и останавливаться на повторяющихся проблемах, таких как общая маргинальность и определение, формализм, повествовательная целостность. , и публикации. Исследования в этой области за последние четыре-пять лет расширяют эти области, демонстрируя при этом чувство преследования со стороны предыдущих критиков.Например, стойкое наследие Эдгара Аллана По заметно присутствует. Недавние публикации, начиная примерно с 2009 года, отражают незаметные, но важные изменения в том, что кажется международным, пересекающим границы ландшафтом периодических критических озабоченностей.
59 В книге Майкла Тулана «» «Повествовательная прогрессия в рассказе: стилистический подход корпуса », например, изучается вопрос о восприятии читателем в зависимости от стилистики и повествования.Toolan увековечивает давнюю традицию формалистического изучения рассказов посредством тщательного текстуального анализа лексико-фразовых паттернов в отношении ожиданий читателя и развития повествования. Такой упор на процесс чтения увековечивает работу выдающихся критиков рассказов, таких как Сьюзан Лохафер, которая изучает концепции закрытия и предварительного раскрытия в книге «Чтение для историчности: теория предварительного раскрытия, эмпирическая поэтика и культура в рассказе ». Это также относится к известному исследованию Джона Герлаха « К концу: завершение и структура в американском рассказе » 1985 года и к работе Пера Винтера в этой области, в частности «Замыкание и раскрытие как повествовательная сетка в анализе рассказов».Работа Тулана подчеркивает акцент на прагматике полноты повествования в критике рассказов.
60 Нити формализма также пронизывают сборник эссе Хорхе Сачидо Модернизм, постмодернизм и краткий рассказ на английском языке и сборник Лауры Му Лохо Родригес Moving Across a Century , которые обращаются к проблеме модернистской и постмодернистской эстетики в коротком рассказе. исследование того, как истории отображают взаимозависимость между двумя эстетическими направлениями.Коллекция Родригеса, например, основана на творчестве Славоя Жижека и пытается пересмотреть модернистский статус рассказов таких авторов, как Вирджиния Вульф и Кэтрин Мэнсфилд.
61 Пол Марч-Рассел в своей книге The Short Story: An Introduction также отмечает акцент на форме в исследованиях рассказов, но при этом признает новый акцент на этике. Он предлагает подходить к формализму с осторожностью, подчеркивая, как сосредоточение критики новеллистов на новых критических или формалистических концепциях не позволяет им охватить возможности, предлагаемые постструктурной критикой (85).В этом томе Марч-Рассел дает не только введение в изучение короткого рассказа, он также пытается повторно исследовать повторяющиеся идеи о форме рассказа и предлагает новые тенденции. Он вспоминает, например, критический поворот в британских университетах, вызванный программами творческого письма. Согласно Марчу-Расселу, такие программы способствуют развитию игровых приемов и подрыву критического письма, за которым следует более радикальное будущее для изучения коротких рассказов (86).
62Аильса Кокс, в работах Написание рассказа, и Преподавание короткого рассказа , действительно подчеркивает критические изменения, которые произошли в результате ярко выраженного акцента на творческое письмо в Британской академии.По словам Кокса, творческое написание программ бакалавриата, магистратуры и доктора философии, предлагаемых многими университетами, способствует тонкому изменению способов критики. Сборник эссе Кокса 2011 года стремится привлечь внимание к разнообразию критического дискурса, которое является результатом изученного противостояния критического чтения и творческого письма. Она вспоминает, например, методы обучения, предполагающие творческое переписывание текстов. Такие подходы явно основаны на практике и, как объясняет Кокс, являются средством вовлечения писателей в обсуждение теории рассказов.Айлса Кокс также является редактором Short Fiction in Theory and Practice, — недавно сформированного (впервые опубликованного в 2011 году) академического, практического журнала, который стремится предоставить международный ресурс и выход для писателей, читателей, переводчиков и издателей короткий рассказ. Журнал приветствует экспериментальные, строгие формы критического дискурса и стремится открыть сферу теории рассказов для новых форм изучения.
63 Такие парадигматические сдвиги в критике и дискурсе также могут быть результатом нынешнего акцента на этике и чтении в рассказе.В книге Кристин Рейнир «Этика рассказа Вирджинии Вульф » этика ставится во главу угла критических проблем, связанных с формой рассказа, особенно модернистского рассказа в его понимании. Акцент Рейнье на общих границах и смысле «разговора», который проявляется в короткометражном художественном произведении Вульфа, опровергает сильный интерес к перформансам повествования, помещая «беседу» автора и читателя в центр обсуждений переговоров Вульфа с жанром.
64 Этика и процесс «повествования» также упоминаются в книге Пола Марч-Рассела (редактор) и Мэгги Авадалла (редактор) Постколониальный рассказ , в которой основное внимание уделяется эстетике рассказов и постколониализму. Редакторы ссылаются на эссе Вальтера Бенджамина «Рассказчик» (1936) и вызывают постмодернистские возрождения фольклорной устной речи (2-3) в постколониальных рассказах, обсуждая при этом концепцию «второстепенной литературы», заимствованной у Делёза и Гваттари. Редакторы также ссылаются на знаменитую предпосылку «одинокого голоса» ирландского автора Фрэнка О’Коннора (Frank O’Oconnor, The Lonely Voice, 1962) о том, что рассказ охватывает маргиналы и находится на периферии литературного производства.Это сближение связано с эволюцией постколониальных исследований в отношении вопросов эклектики, миграции, диаспоры и глобализации. Сборник фокусируется на рассказах с 1970-х годов до наших дней и предлагает изученное взаимодействие между рассказом и гибридизацией области постколониальной литературы с акцентом на лиминальность и изменчивость сексуальной, текстовой, национальной и этнической идентичности. Традиция согласования границ и граней в рассказе находит отклик в ряде современных проблем в постколониальной литературе.
65Heather Ingman’s История ирландского рассказа аналогичным образом подчеркивает связь между ирландской национальной идентичностью и формой рассказа. Организация глав отображает акцент на истории Ирландии и рассказе до настоящего времени, в конечном итоге завершаясь комментариями о фрагментации современной ирландской идентичности. Хотя автор отмечает, что ирландский рассказ еще не испытал гибридизации и разнообразия, которые она видит в британской художественной литературе, она отмечает растущий интерес к себе как процессу (266), например, в работах Ни Дуибне.
66 Британский рассказ (написанный Эммой Лиггинс, Эндрю Маундером и Рут Роббинс) также затрагивает национальную и родовую идентичность. Он ставит британскую издательскую индустрию на передний план, исследуя различные социологические силы, которые проявляются в форме издательских тенденций и ограничений в Великобритании, с акцентом на их формирующее влияние на форму рассказа. Как и книга Ингмана, этот том завершается разделом, в котором рассматриваются возникающие вопросы иммиграции и мультикультурализма в современном рассказе.
67 Издательская индустрия постоянно занимается изучением новелл, как в книге Дина Болдуина Искусство и коммерция в британском рассказе , 1880–1950 . Рассказ имеет отличную историю публикации в журналах и периодических изданиях, тематических и исторических антологиях, и большое внимание было уделено циклу и сборнику рассказов. Работа Болдуина предлагает исторический фокус на взаимосвязанных силах экономики и возникновении традиции рассказов, с методологией, которая чередуется между литературным исследованием и исторической статистикой.Многие авторы рассказов говорят об издательских ограничениях и требуют от своих издателей написать роман, чтобы укрепить свою карьеру. Работа Болдуина напоминает нам о важности литературного поля издателей и критиков в формировании восприятия рассказа критиками и читателями с течением времени.
68March-Russell в вышеупомянутом The Short Story: An Introduction также посвящает главы издательской индустрии и академическим кругам как силам, которые способствуют созданию короткого рассказа, и вместе с Авадаллой в The Postcolonial Short Story он обсуждает Специфика постколониальной публикации рассказов . Британский критик Касии Бодди в книге Американский рассказ с 1950 года подчеркивает важность контекста публикации для понимания формальной эволюции американского рассказа. Изучение литературного производства и восприятия действительно редко отсутствует в критике рассказов. В специальном выпуске «Образ автора короткого рассказа на английском языке», совместно редактируемом Short Fiction in Theory and Practice и Journal of the Short Story in English в 2012 году, исследуется смещение таких озабоченностей на художественная литература авторов рассказов.Сборник исследует различные способы, с помощью которых авторы используют рассказы для решения вопросов общей легитимности и авторства в рассказе.
69 Можно также учитывать влияние деятельности издателей рассказов. Comma Press, издательство, специализирующееся на коротких рассказах, использует различные стратегии для продвижения рассказов. Comma Press создала приложение «Gimbal» для пользователей Iphone с целью сделать рассказы более доступными для читателей.Это интерактивное приложение для телефона, созданное в сотрудничестве с Literature Across Frontiers (и в сотрудничестве с Университетом Аберистуита) и разработанное Toru Interactive, позволяет читателям читать, слушать или узнавать о различных рассказах на английском языке (включая переведенные рассказы с других языков) со всего мира. Мы можем видеть здесь явное разыгрывание связи, которую многие современные теоретики установили между рассказом как фрагментом (Cox 2011, 2) и нашими современными медиа.
70Comma Press также принимала участие в создании антологий, которые затрагивают этические проблемы современной литературы. Известные коллекции включают Litmus: Short Stories from Modern Science , антологию, для которой писателям было поручено работать с известными учеными, чтобы написать рассказы о важных моментах эврики . Рассказы таких авторов, как Сара Мейтленд, Зои Ламберт, Джейн Роджерс, Элисон Маклауд и Сара Холл, сопровождаются краткой запиской ученого, иногда самого ученого, фигурирующего в рассказе, как в случае с Элисон Маклауд «Сердце мира». Денис Ноубл.Точно так же Biopunk: Stories from the Far Side of Research предлагал авторам писать рассказы о новых областях биомедицинских исследований. За рассказами Адама Марека, Шона О’Брайена, Сары Мейтленд и Тоби Литт следуют послесловия известных ученых. Это всего лишь несколько экспериментов по выдвижению этики на передний план публикаций, а также средство создания сложных ограничений для авторов рассказов. Редакторы Comma Press также участвовали в создании European Short Story Network, международной сети, занимающейся продвижением написания рассказов: http: // www.theshortstory.eu.
71 Многочисленные литературные призы, посвященные рассказу, также способствуют развитию и признанию жанра. Известные награды в Великобритании включают в себя следующие: премия Sunday Times Short Story Award (победитель 2013 г., Синан Джонс, «The Dig», Six Shorts , The Sunday Times, 2013 г.), Национальная премия BBC за рассказ (победитель 2013 г. — Сара Холл). , «Миссис Фокс», 2013 был представлен полностью женским шорт-листом), The Edgehill Prize (победитель 2013 года, Кевин Барри, Dark Lies The Island, ), Премия Фрэнка О’Коннора (победитель 2013 года, британский писатель Дэвид Константин, Tea at Мидленд и другие рассказы, ).Такие призы в сочетании с программами творческого письма способствовали развитию короткометражного рассказа, оказывая при этом значительное влияние на форму исследования короткометражного художественного произведения.
72 Еще одним важным ресурсом является «ПОРОГ: дом международного форума рассказов» (blogs.chi.ac.uk/shortstoryforum/), расположенный в Университете Чичестера, Великобритания. Первоначально основанный Элисон Маклауд как форум для аспирантов, этот веб-сайт превратился в важный ресурс в сфере творческого письма.В академических кругах заметным событием является недавно сформированная «Европейская сеть исследований короткометражных художественных произведений» (ENSFR), созданная и управляемая исследователями из Университета Анжера и Университета Эджхилла в Великобритании (нынешний руководящий комитет: Айлса Кокс и я). В настоящее время сеть ведет блог (ensfr.hypotheses.org) с намерением разработать совместный веб-сайт, который будет служить форумом и ресурсом для исследований в области короткометражного художественного творчества
73 Исследовательская группа CRILA (Centre de Recherche Interdisciplinaire en Langue Anglaise) при Университете Анжера также продолжает заниматься рассказом.Их участие в этом жанре началось в 1983 году с создания журнала Journal of the Short Story на английском языке ( JSSE ), первоначально редактировавшегося Беном Форкнером и Джоном Пейном, совместно редактируемым Университетом Анжера в сотрудничестве с Университетом Бельмонт. (Нэшвилл, Теннесси, нынешний редактор: Линда Коллиндж, Университет Анжера). В 2013 году JSSE отмечает свой 30-летний юбилей. Последние выпуски включают специальный том по рассказам Эдит Уортон ( JSSE 58, весна 2012 г., Введение Вирджинии Рикард) и специальный том по экранизациям рассказов ( JSSE 59, осень 2012 г.

 / Подг. текстов,
/ Подг. текстов,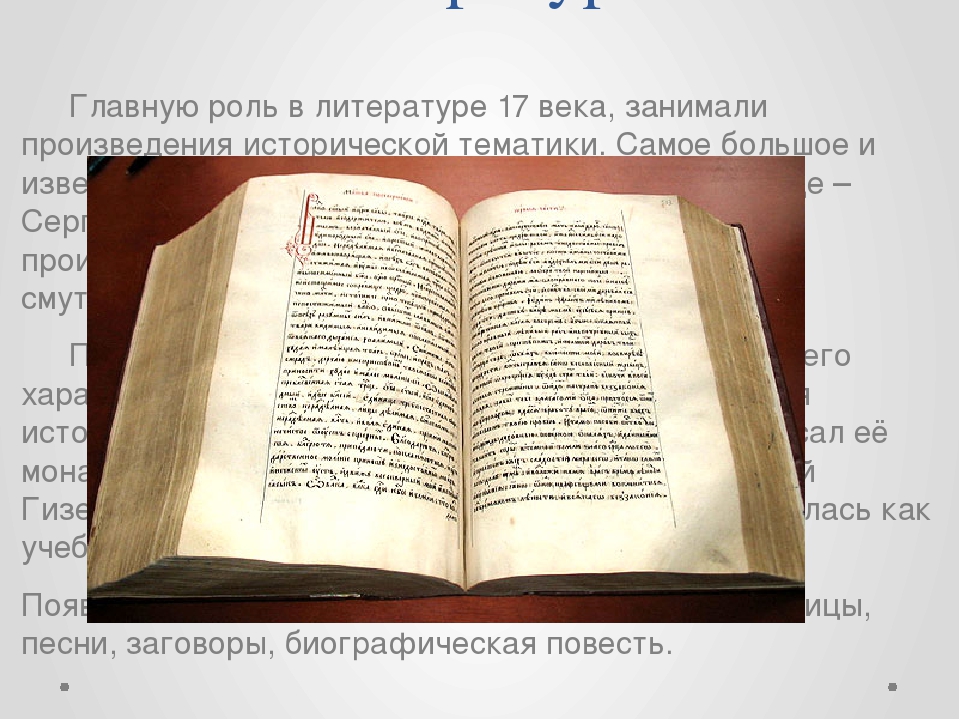 Именно из народной сатиры черпала русская демократическая сатирическая повесть свои темы, образы и художественно-изобразительные средства.
Именно из народной сатиры черпала русская демократическая сатирическая повесть свои темы, образы и художественно-изобразительные средства. Такова, например, «Калязинская челобитная», написанная в форме жалобы братии Троицкого Калязина монастыря на своего архимандрита Гавриила. Объектом сатирического обличения повесть избирает один из крупнейших монастырей России – Калязинский мужской монастырь, что позволяет автору раскрыть типичные черты жизни русского монашества XVII века. Монахи удалились от мирской суеты вовсе не для того, чтобы, умерщвляя свою плоть, предаваться молитве и покаянию. За стенами монастыря скрывается сытая и полная пьяного разгула жизнь. В пародийной форме слезной челобитной монахи жалуются архиепископу тверскому и Кашинскому Симеону на своего нового архимандрита – настоятеля монастыря Гавриила. В челобитной звучит требование немедленно заменить архимандрита человеком, гораздым, «лежа, вино да пиво пить, а в церковь не ходить», а также прямая угроза восстать против своих притеснителей. За внешним балагурством пьяных монахов в повести проступает народная ненависть к монастырям, к церковным феодалам. Основным средством сатирического обличения является язвительная ирония, скрытая в слезной жалобе чиновников.
Такова, например, «Калязинская челобитная», написанная в форме жалобы братии Троицкого Калязина монастыря на своего архимандрита Гавриила. Объектом сатирического обличения повесть избирает один из крупнейших монастырей России – Калязинский мужской монастырь, что позволяет автору раскрыть типичные черты жизни русского монашества XVII века. Монахи удалились от мирской суеты вовсе не для того, чтобы, умерщвляя свою плоть, предаваться молитве и покаянию. За стенами монастыря скрывается сытая и полная пьяного разгула жизнь. В пародийной форме слезной челобитной монахи жалуются архиепископу тверскому и Кашинскому Симеону на своего нового архимандрита – настоятеля монастыря Гавриила. В челобитной звучит требование немедленно заменить архимандрита человеком, гораздым, «лежа, вино да пиво пить, а в церковь не ходить», а также прямая угроза восстать против своих притеснителей. За внешним балагурством пьяных монахов в повести проступает народная ненависть к монастырям, к церковным феодалам. Основным средством сатирического обличения является язвительная ирония, скрытая в слезной жалобе чиновников.

 Однако не подлежит сомнению, что в официальной, связанной с церковью культуре этот запрет действительно имел место и играл большую роль. Не случайно в «Повести о Савве Грудцыне», испытавшей сильнейшее влияние жанра «чуда», смех сделан устойчивой приметой беса. Этот запрет отразился и в пословицах: «Смехи́ да хихи́ введут во грехи»; «Где грех, там и смех»; «В чем живет смех, в том и грех»; «И смех наводит на грех»; «Сколько смеху, столько греха».
Однако не подлежит сомнению, что в официальной, связанной с церковью культуре этот запрет действительно имел место и играл большую роль. Не случайно в «Повести о Савве Грудцыне», испытавшей сильнейшее влияние жанра «чуда», смех сделан устойчивой приметой беса. Этот запрет отразился и в пословицах: «Смехи́ да хихи́ введут во грехи»; «Где грех, там и смех»; «В чем живет смех, в том и грех»; «И смех наводит на грех»; «Сколько смеху, столько греха».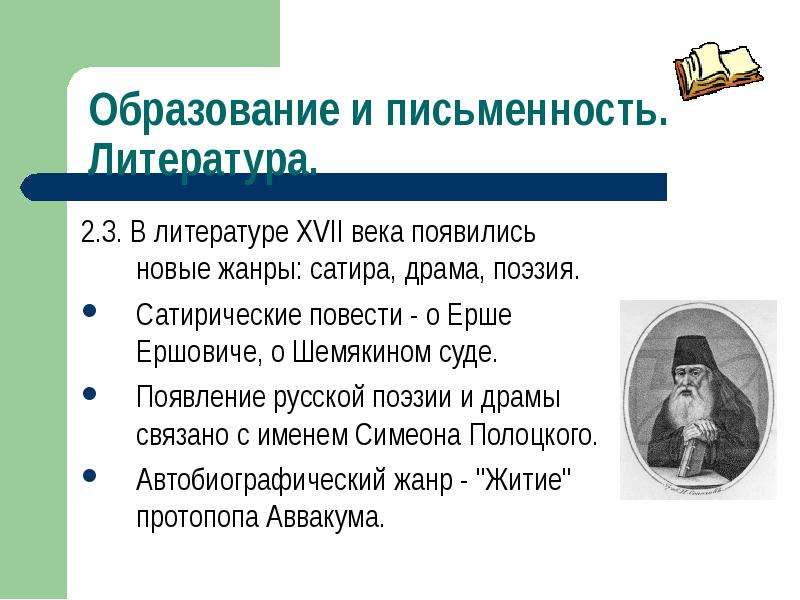 Здесь мечтают о стране, где всего вдоволь и все доступно. Такой сказочный рай обжор и пьяниц описан в «Сказании о роскошном житии и веселии»: «Да там же есть озеро не добре велико, исполненно вина двойнова. И кто хочет, – испивай, не бойся, хотя вдруг по две чашки. Да тут же близко пруд меду. И тут всяк, пришед, хотя ковшем или ставцом, припадкою или горьстью, бог в помощь, напивайся. Да близко ж тово целое болото пива. И ту всяк, пришед, пей да и на голову лей, коня своего мой да и сам купайся, и нихто не оговорит, ни слова молвит». В эту страну и путь указан: «А прямая дорога до тово веселья – от Кракова до Аршавы и на Мозовшу, а оттуда на Ригу и Ливлянд, оттуда на Киев и на Подолеск, оттуда на Стеколню и на Корелу, оттуда на Юрьев и ко Брести, оттуда к Быхову и в Чернигов, в Переяславль и в Черкаской, в Чигирин и Кафимской».
Здесь мечтают о стране, где всего вдоволь и все доступно. Такой сказочный рай обжор и пьяниц описан в «Сказании о роскошном житии и веселии»: «Да там же есть озеро не добре велико, исполненно вина двойнова. И кто хочет, – испивай, не бойся, хотя вдруг по две чашки. Да тут же близко пруд меду. И тут всяк, пришед, хотя ковшем или ставцом, припадкою или горьстью, бог в помощь, напивайся. Да близко ж тово целое болото пива. И ту всяк, пришед, пей да и на голову лей, коня своего мой да и сам купайся, и нихто не оговорит, ни слова молвит». В эту страну и путь указан: «А прямая дорога до тово веселья – от Кракова до Аршавы и на Мозовшу, а оттуда на Ригу и Ливлянд, оттуда на Киев и на Подолеск, оттуда на Стеколню и на Корелу, оттуда на Юрьев и ко Брести, оттуда к Быхову и в Чернигов, в Переяславль и в Черкаской, в Чигирин и Кафимской».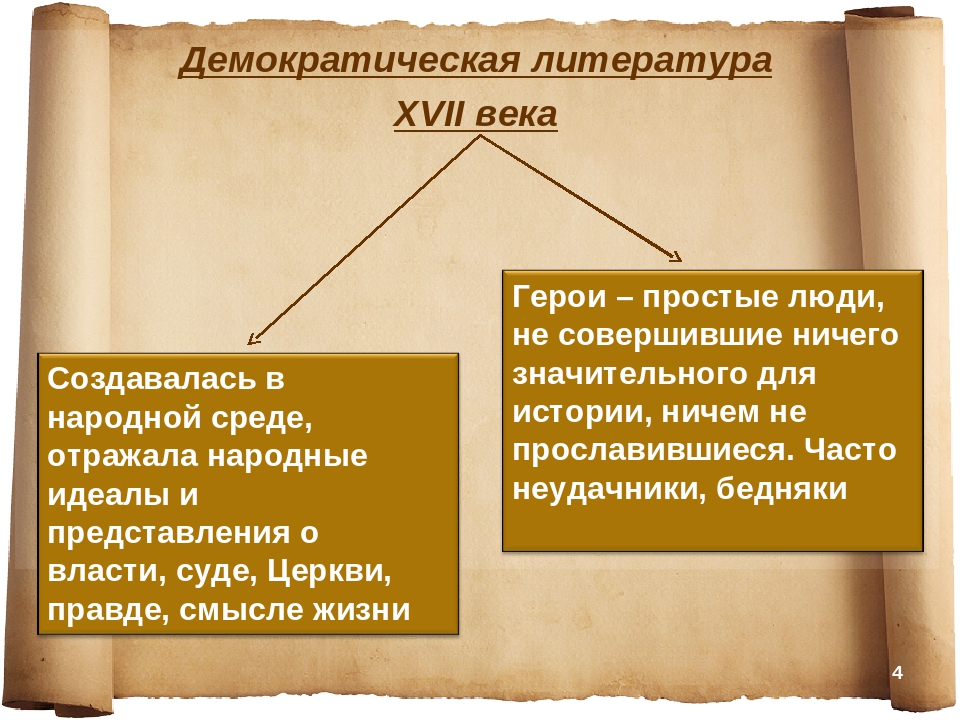
 В соответствии со спецификой средневекового смеха это восклицание надлежит толковать в качестве признания всеобщей, в том числе и авторской «дурости». Таких автопризнаний в рукописных памятниках XVII в. более чем достаточно. «Бьет челом сын твой, богом даной, а дурак давной», – так аттестует себя анонимный автор одного раешного послания. Это притворное саморазоблачение и самоуничижение, это только маска дурости, игра в нее, это позиция шута. Основной парадокс шутовской философии гласит, что мир сплошь населен дураками, и среди них самый большой дурак тот, кто не догадывается, что он дурак. Отсюда логически вытекает, что в мире дураков единственный неподдельный мудрец – это шут, который валяет дурака, притворяется дураком (вспомним сказки, где дурак всегда умнее всех). Поэтому «старинный дурацкий смех» вовсе не бессознателен и не наивен. Это своеобразное мировоззрение, выросшее из противопоставления собственного горького опыта «душеполезной» и серьезной официальной культуре.
В соответствии со спецификой средневекового смеха это восклицание надлежит толковать в качестве признания всеобщей, в том числе и авторской «дурости». Таких автопризнаний в рукописных памятниках XVII в. более чем достаточно. «Бьет челом сын твой, богом даной, а дурак давной», – так аттестует себя анонимный автор одного раешного послания. Это притворное саморазоблачение и самоуничижение, это только маска дурости, игра в нее, это позиция шута. Основной парадокс шутовской философии гласит, что мир сплошь населен дураками, и среди них самый большой дурак тот, кто не догадывается, что он дурак. Отсюда логически вытекает, что в мире дураков единственный неподдельный мудрец – это шут, который валяет дурака, притворяется дураком (вспомним сказки, где дурак всегда умнее всех). Поэтому «старинный дурацкий смех» вовсе не бессознателен и не наивен. Это своеобразное мировоззрение, выросшее из противопоставления собственного горького опыта «душеполезной» и серьезной официальной культуре. родственна европейской и в то же время отличается от нее. Если в европейской традиции появляется репрезентант – немецкий Эйленшпигель, чешский Франта, польский Совизджал, то в традиции русской его место занимает собирательный персонаж, безымянный молодец. Свой взгляд на мир он выразил в «Азбуке о голом и небогатом человеке». Здесь в алфавитном порядке, от «аза» до «ижицы», помещены реплики безымянного героя, образующие в совокупности пространный монолог.
родственна европейской и в то же время отличается от нее. Если в европейской традиции появляется репрезентант – немецкий Эйленшпигель, чешский Франта, польский Совизджал, то в традиции русской его место занимает собирательный персонаж, безымянный молодец. Свой взгляд на мир он выразил в «Азбуке о голом и небогатом человеке». Здесь в алфавитном порядке, от «аза» до «ижицы», помещены реплики безымянного героя, образующие в совокупности пространный монолог. В смеховых текстах глухим предлагается «потешно слушать», безруким – «взыграть в гусли», безногим – «возскочить». Это абсурдно, но столь же абсурдна и жизнь низов, которые в XVII в. обнищали до такой степени, что смеховой мир слился с миром реальным, а шутовская нагота стала реальной же и социальной наготой.
В смеховых текстах глухим предлагается «потешно слушать», безруким – «взыграть в гусли», безногим – «возскочить». Это абсурдно, но столь же абсурдна и жизнь низов, которые в XVII в. обнищали до такой степени, что смеховой мир слился с миром реальным, а шутовская нагота стала реальной же и социальной наготой.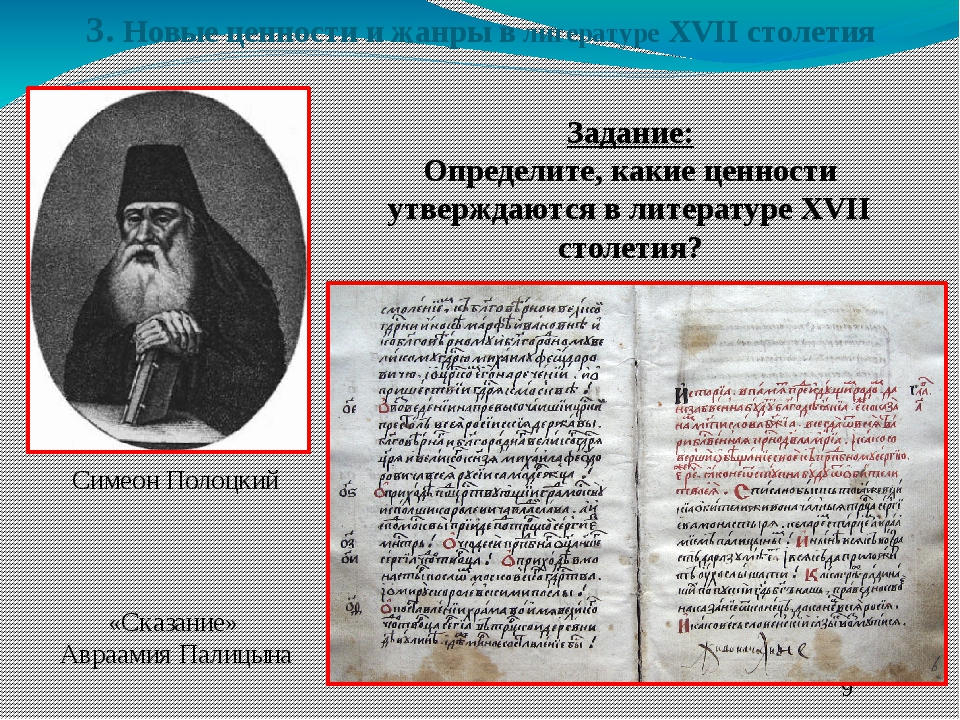
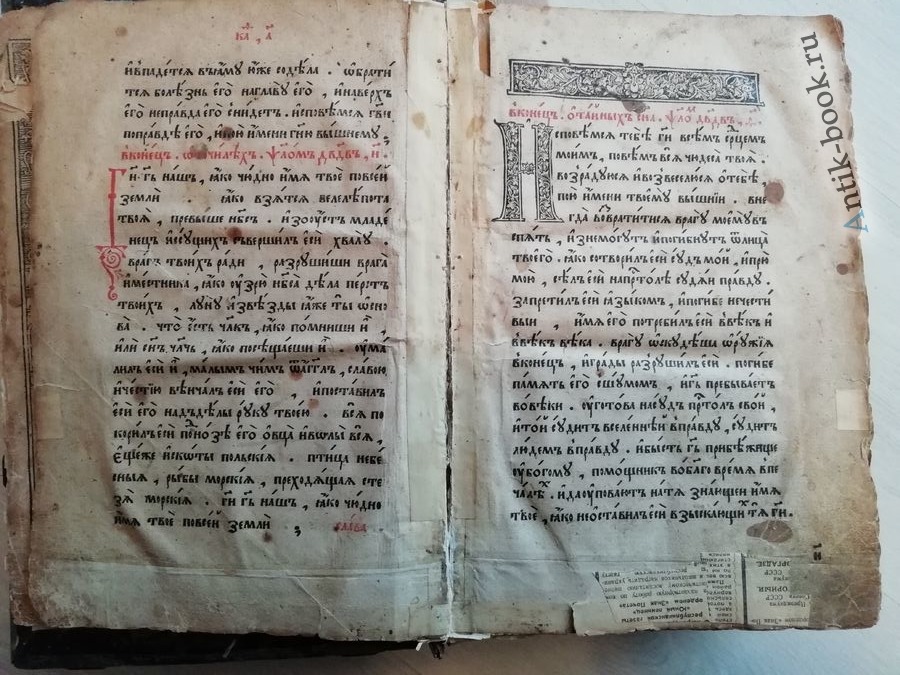 Эта фраза дает пищу для размышлений о том, к какому сословию принадлежали авторы смеховых произведений.
Эта фраза дает пищу для размышлений о том, к какому сословию принадлежали авторы смеховых произведений. Безымянные герои сатирических повестей несли в себе широкое художественное обобщение. Правда, герои еще лишены индивидуальных черт, это лишь собирательные образы той социальной среды, которую они представляли, но они действовали в будничной, повседневной обстановке, и, что особенно важно, их внутренний мир раскрывался впервые в сатирических характерах.
Безымянные герои сатирических повестей несли в себе широкое художественное обобщение. Правда, герои еще лишены индивидуальных черт, это лишь собирательные образы той социальной среды, которую они представляли, но они действовали в будничной, повседневной обстановке, и, что особенно важно, их внутренний мир раскрывался впервые в сатирических характерах. д.
д.
 принадлежала патриарху Никону). Один из списков Никоновской летописи содержит около 16 тыс. миниатюр — цветных иллюстраций, за что получил название Лицевого свода («лицо» — изображение). Наряду с летописанием дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых рассказывалось о событиях того времени. («Казанское взятие», «О прихождении Стефана Батория на град Псков» и др.) Создавались новые хронографы. Об обмирщении культуры свидетельствует написанная в это время книга, содержащая разнообразные полезные сведения, руководства как в духовной, так и в мирской жизни,— «Домострой» (в переводе — домоводство), автором которой считаю Сильвестра.
принадлежала патриарху Никону). Один из списков Никоновской летописи содержит около 16 тыс. миниатюр — цветных иллюстраций, за что получил название Лицевого свода («лицо» — изображение). Наряду с летописанием дальнейшее развитие получили исторические повести, в которых рассказывалось о событиях того времени. («Казанское взятие», «О прихождении Стефана Батория на град Псков» и др.) Создавались новые хронографы. Об обмирщении культуры свидетельствует написанная в это время книга, содержащая разнообразные полезные сведения, руководства как в духовной, так и в мирской жизни,— «Домострой» (в переводе — домоводство), автором которой считаю Сильвестра.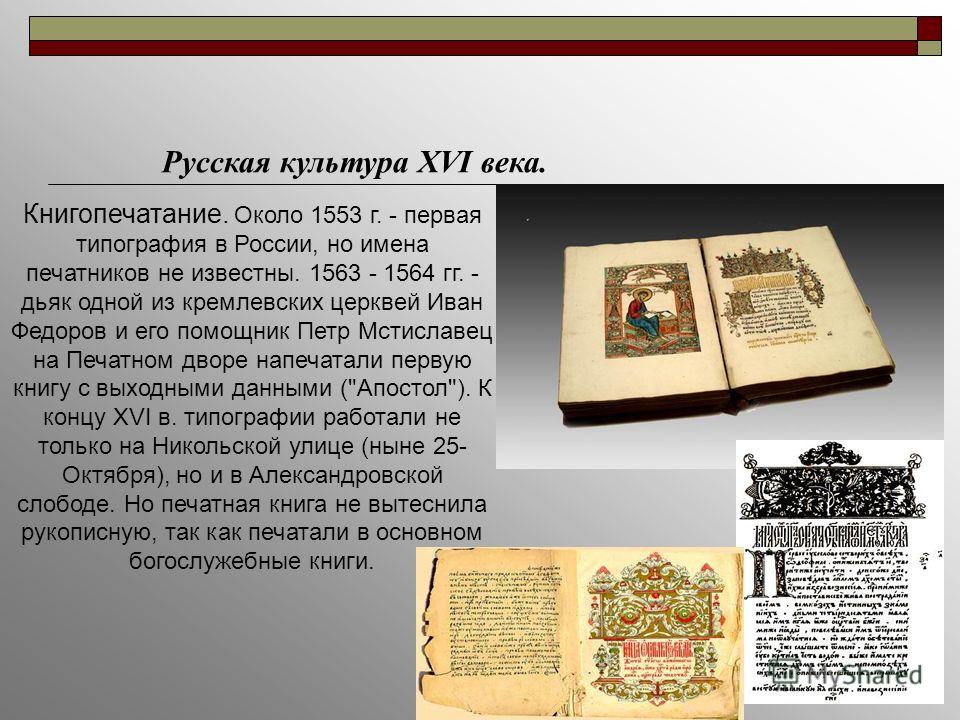 — Иван Фёдоров. Типографские работы, начатые в Кремле, были переведены на Никольскую улицу, где построили специальное здание для типографии. Кроме религиозных книг Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславец в 1574 г. во Львове выпустили первый русский букварь — «Азбуку». За весь XVI в. в России типографским способом было издано всего 20 книг. Рукописная книга занимала ведущее место и в XVI, и в XVII вв.
— Иван Фёдоров. Типографские работы, начатые в Кремле, были переведены на Никольскую улицу, где построили специальное здание для типографии. Кроме религиозных книг Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславец в 1574 г. во Львове выпустили первый русский букварь — «Азбуку». За весь XVI в. в России типографским способом было издано всего 20 книг. Рукописная книга занимала ведущее место и в XVI, и в XVII вв. Затем в Москве возвели Земляной вал—15-киломстровую деревянную крепость на валу (современное Садовое кольцо).
Затем в Москве возвели Земляной вал—15-киломстровую деревянную крепость на валу (современное Садовое кольцо).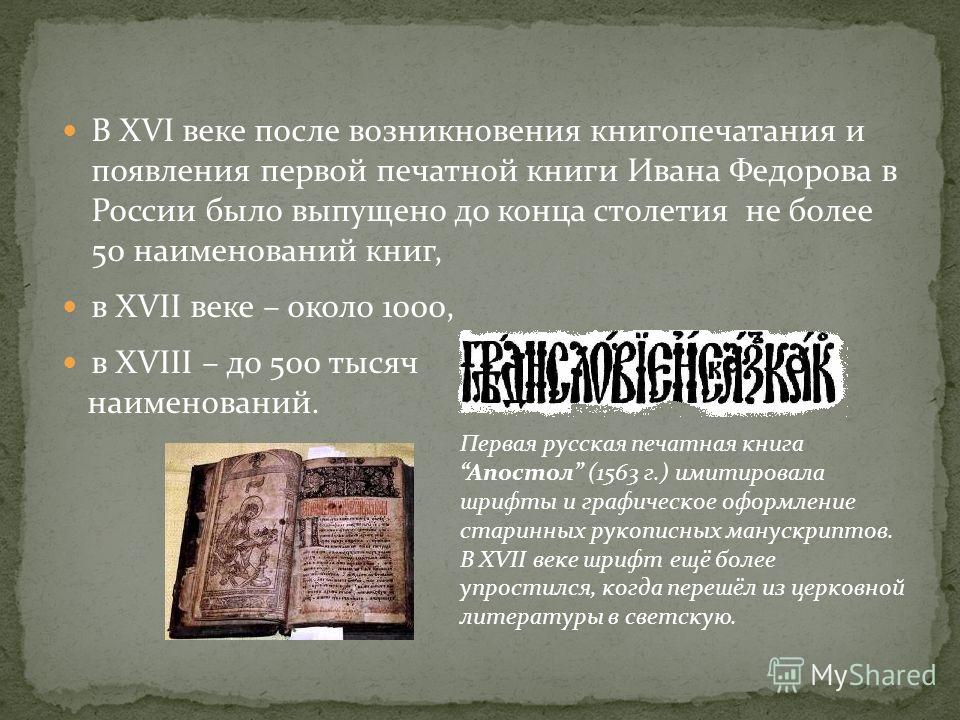
Post A Comment