Пять афоризмов, приписываемых Эммануилу Канту — Российская газета
12 февраля 1804 года в возрасте 79 лет в прусском Кенигсберге умер великий немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант.
Кант — энциклопедист и аналитик, философ математического склада, ввел в своей жизни строжайшие правила и жесткий распорядок дня, выкроив, таким образом, время для решения сложнейших интеллектуальных задач.
С детства Кант отличался слабым здоровьем . Он едва не умер при рождении, и всю последующую жизнь боролся с недугами. Однако предпринятая им попытка настроить организм на четкий суточный ритм, коего Кант придерживался всю свою жизнь, оказалась столь успешной, что позволила ученому не только прожить почти до 80 лет, но и до последнего дня оставаться в трезвом уме и ясной памяти.
Вся жизнь отца классической немецкой философии представляет сплошной эксперимент, поставленный гением над самим собой с целью доказать возможность и способность человека влиять на собственную судьбу.
Известно, что Иммануил Кант всю свою жизнь прожил в одном городе — прусском Кенигсберге, практически не покидая его и не уезжая далее 100 километров.
Перу философа принадлежат фундаментальные исследования «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения» и др. Он много размышлял над тем, что есть мысль, вселенная, этика, Бог. Ему принадлежит множество афоризмов.
Но порой за высказывания великого ученого выдаются мысли, которые принадлежат другим великим людям. Что говорил и не говорил Кант — в подборке «РГ».
1. «Как становятся философами?» — спросил юноша, обратившись к философу. «
 А вот Сократ был отцом семейства, а его жена Ксантиппа (Рыжая Лошадь) действительно была одной из причин того, что Сократ искал утешение в философии. Говорят, что у нее был несносный характер и она всегда «пилила» своего умного супруга.
А вот Сократ был отцом семейства, а его жена Ксантиппа (Рыжая Лошадь) действительно была одной из причин того, что Сократ искал утешение в философии. Говорят, что у нее был несносный характер и она всегда «пилила» своего умного супруга.2. Впрочем, несмотря на свой по сути пуританский стиль жизни (на протяжении более чем пятидесяти лет ученый придерживался строгого распорядка дня, просыпался в 5 часов утра, до семи работал, выпивая несколько чашек чая и выкуривая трубку, после завтрака, всегда состоявшего из одних и тех же блюд, следовал в университет, ставший для него родным домом, после лекций возвращался на обед, после которого гулял в одиночестве), Кант много размышлял и о взаимоотношениях полов. Его всегда интересовала загадочная женская душа. Однако он не произносил широкоизвестную сегодня фразу «
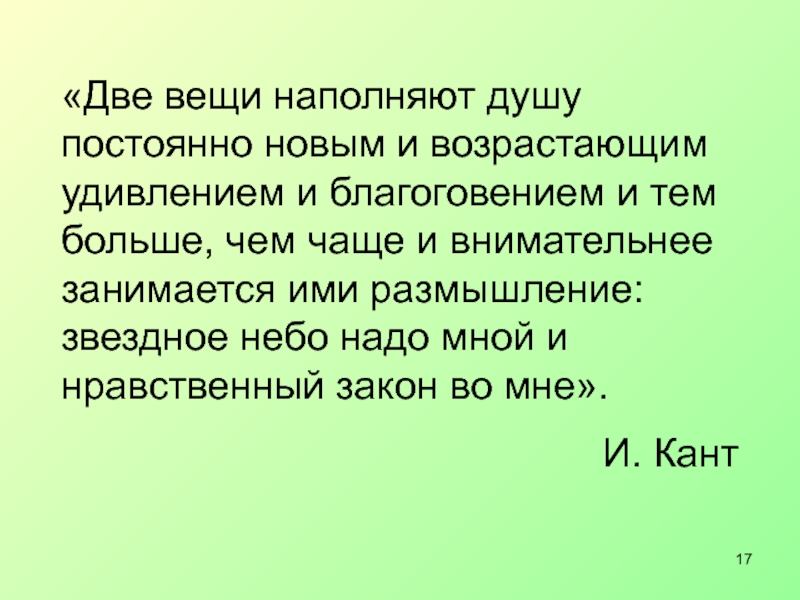 Сам же Кант говорил, что «Женщины даже мужской пол делают более утонченным«.
Сам же Кант говорил, что «Женщины даже мужской пол делают более утонченным«.3. «Жить — значит чувствовать«. Известное изречение, которое встречается во многих литературных произведениях. В той или иной мере его интерпретируют герои Горького («Старуха Изергиль») и Шолохова («Тихий Дон»). На самом деле великое изречение звучит так: »
4. Сотворение мира — одна из величайших загадок, которая занимает умы ученых, начиная с древних времен и заканчивая современностью. Не мог остаться в стороне от решения этой задачи и великий немецкий мыслитель.
Кант представляет первоначальное состояние Вселенной, как хаотическое облако разнообразных материальных частиц.
5. «Цель оправдывает средства«- кому только не приписывают это крылатое изречение.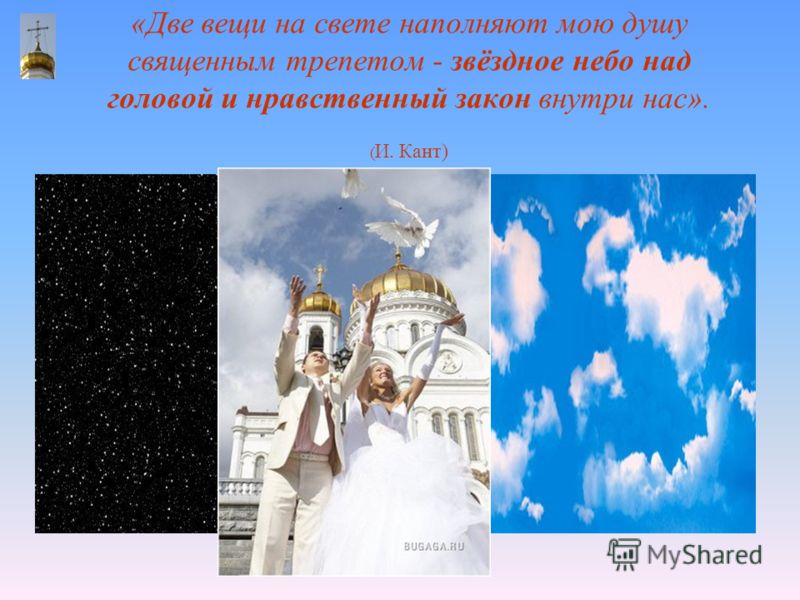 Одни утверждают, что она принадлежит итальянскому мыслителю XV-XVI века Никколо Макиавелли. Другие — что французскому математику и философу Паскалю. Третьи — писателю Николаю Островскому. Четвертые — Иммануилу Канту. Кант, будучи, как пишут исследователи его наследия, человеком очень порядочным и добрым, не мог такое утверждать. Напротив, он учил: «
Одни утверждают, что она принадлежит итальянскому мыслителю XV-XVI века Никколо Макиавелли. Другие — что французскому математику и философу Паскалю. Третьи — писателю Николаю Островскому. Четвертые — Иммануилу Канту. Кант, будучи, как пишут исследователи его наследия, человеком очень порядочным и добрым, не мог такое утверждать. Напротив, он учил: «
Между тем
Самое известное изречение Иммануила Канта, характеризующее его прежде всего как высоконравственного человека, звучит так: «Две вещи наполняют душу все новым и нарастающим удивлением и благословением, тем чаще, чем продолжительнее мы размышляем о них, — звездное небо надо мной и моральный закон во мне».
Нравственный закон Иммануила Канта и ритуал Жоржа Батая: варианты соотнесения
Maxim Goryunov.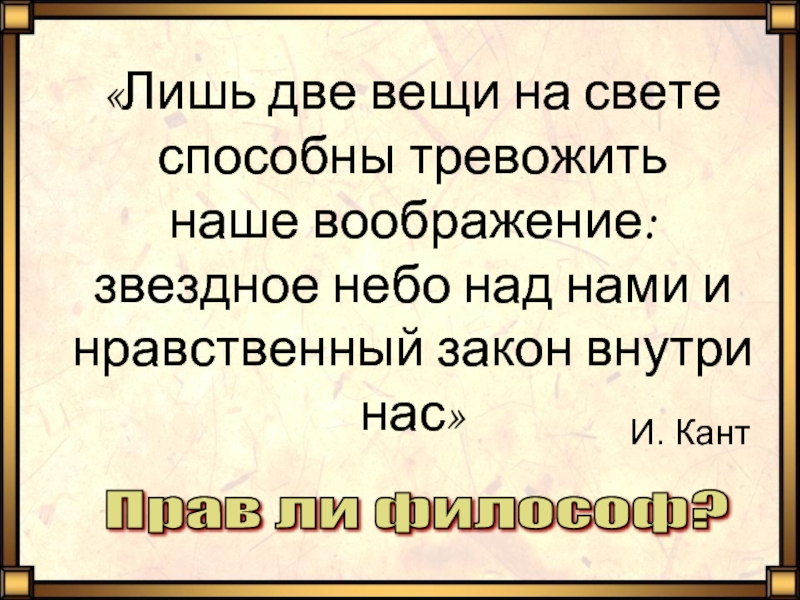
Нравственный закон как источник аффекта
У Канта в «Антропологии с прагматической точки зрения» описаны два параллельных ряда аффектов: свойственных человеку как живому существу и свойственых ему как живому существу, наделенному разумом. Благодаря разуму, считает Кант, человеку доступны дополнительные объекты, способные вызвать аффект — мощное эмоциональное переживание, на мгновение отменяющее разум [Кант 2002: 164]. Нравственный закон у нас внутри, звездное небо у нас над головой и тщеславие, которое есть и у зверя, вводят нас в состояние аффекта с равной силой, и это равенство есть невероятная удача, уверяет нас Кант. Благодаря ему у человека есть шанс реализоваться в качестве не-зверя. Если у Декарта разум один на один противостоит аффектам и вынужден прибегать к дрессуре [Декарт 1989: 504], то у Канта разум имеет поддержку со стороны аффектов, существование которых напрямую связано со способностью человека мыслить.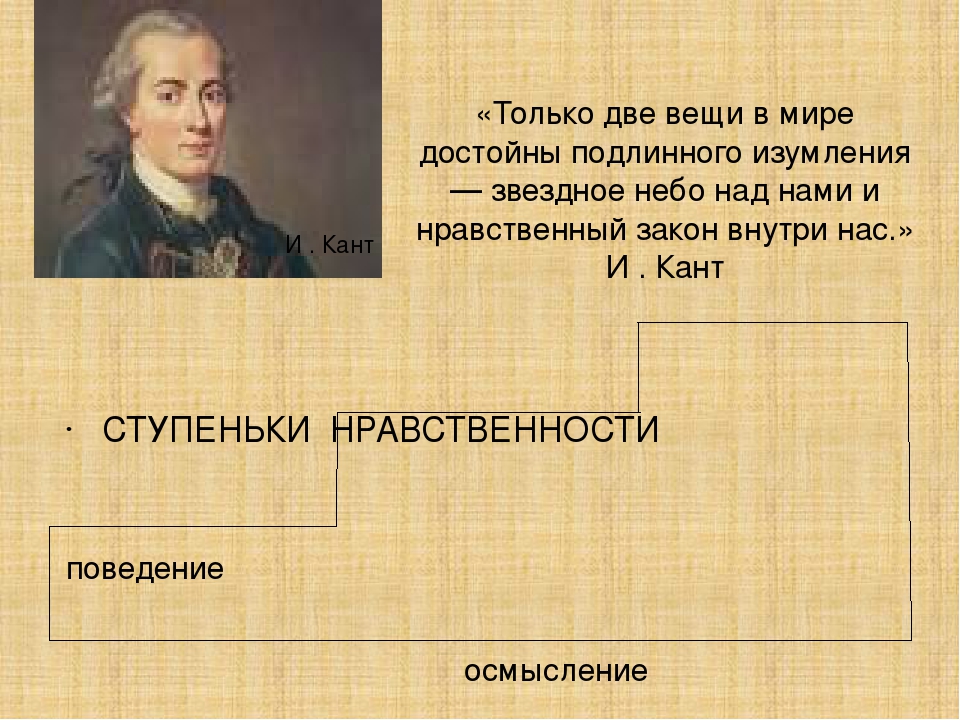
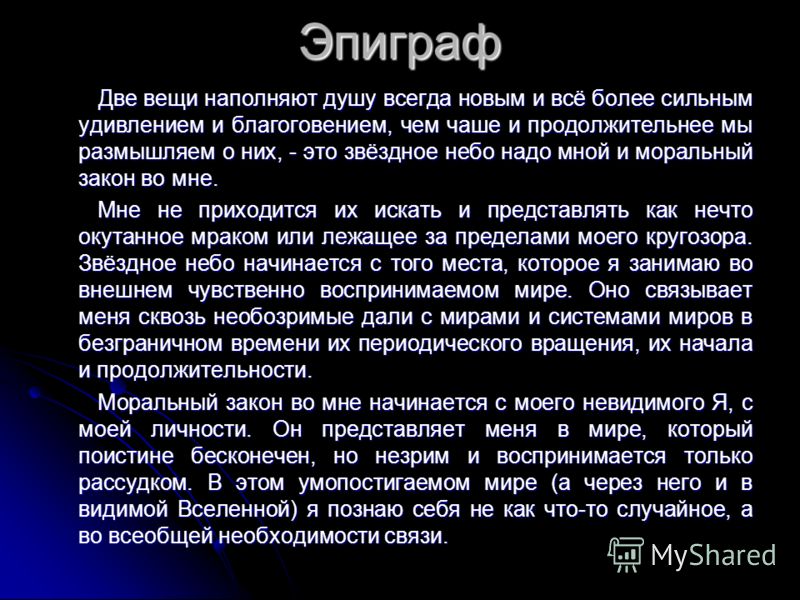

Возвращаясь к вопросу об отношениях разума и чувств: в кантианской логике понятие о моральном действии и восхищение перед ним доступно человеку благодаря разуму. Вместе с тем, с точки зрения выживающего зверя, моральное действие является ошибкой [Кант 2007: 457]. В акте морального поступка человек уклоняется от выживания. Учитывая тот факт, что все живое обречено на выживание, это ошибка и шаг в сторону смерти. Кант предлагает нам увидеть в ошибке намек на нашу исключительность. Человек, выживая, постоянно ошибается, и в этой постоянности, уверяет нас Кант, мы можем разглядеть наше призвание. Ошибка говорит нам о том, что человек связан с природой не как зверь; у человека иное предназначение, более высокое, следование которому как раз и сообщает человеку специфически человеческое, то есть радикально не-звериное достоинство. Предназначение человека — мораль. В морали, в сознательной ошибке, допущенной человеком во имя своей человечности, реализуется стремление к свободе. Зверь реализует свое зверство в выживании, человек реализует человеческое в акте сознательного уклонения от выживания во имя свободы. Сознательно совершая моральный поступок, человек делает ошибку, и эта ошибка, даже сама мечта о ней, уверен Кант, свидетельствует и о нашей исключительности, нашей отдельности от остального живого. Самым ярким примером подобной ошибки является ошибка Иисуса Христа. С точки зрения Канта, восхитительность морального поступка напрямую зависит от размаха урона, нанесенного стремлению выжить.
Кант предлагает нам увидеть в ошибке намек на нашу исключительность. Человек, выживая, постоянно ошибается, и в этой постоянности, уверяет нас Кант, мы можем разглядеть наше призвание. Ошибка говорит нам о том, что человек связан с природой не как зверь; у человека иное предназначение, более высокое, следование которому как раз и сообщает человеку специфически человеческое, то есть радикально не-звериное достоинство. Предназначение человека — мораль. В морали, в сознательной ошибке, допущенной человеком во имя своей человечности, реализуется стремление к свободе. Зверь реализует свое зверство в выживании, человек реализует человеческое в акте сознательного уклонения от выживания во имя свободы. Сознательно совершая моральный поступок, человек делает ошибку, и эта ошибка, даже сама мечта о ней, уверен Кант, свидетельствует и о нашей исключительности, нашей отдельности от остального живого. Самым ярким примером подобной ошибки является ошибка Иисуса Христа. С точки зрения Канта, восхитительность морального поступка напрямую зависит от размаха урона, нанесенного стремлению выжить. Если бы Иисус, как и всякое живое существо, руководствовался логикой выживания, он бы стал правителем и захватил весь мир. Богочеловек, захвативший мир, заслуживает восхищения, но это было бы восхищение в рамках логики выживания. Следуя Канту, оно находилось бы на максимальном удалении от категорического императива. Вместо власти Иисус выбирает путь проповеди и бескорыстного исцеления, отказывается защищать себя от преследования со стороны выживающих людей и в итоге оказывается на кресте. В соответствии с логикой Канта оказаться на кресте, имея возможность навсегда избавить себя от угрозы страданий и смерти, — это и есть та самая идеальная моральная ошибка. Всякое разумное существо, решившее до конца следовать своей разумности и стремлению к свободе, движется в направлении Голгофы. Важно уточнить, что приближение к Голгофе, а также страдания и мучительная смерть не являются целью сами по себе. В них есть смысл до тех пор, пока они являются признаками сознательного и бескорыстного следования требованиям категорического императива.
Если бы Иисус, как и всякое живое существо, руководствовался логикой выживания, он бы стал правителем и захватил весь мир. Богочеловек, захвативший мир, заслуживает восхищения, но это было бы восхищение в рамках логики выживания. Следуя Канту, оно находилось бы на максимальном удалении от категорического императива. Вместо власти Иисус выбирает путь проповеди и бескорыстного исцеления, отказывается защищать себя от преследования со стороны выживающих людей и в итоге оказывается на кресте. В соответствии с логикой Канта оказаться на кресте, имея возможность навсегда избавить себя от угрозы страданий и смерти, — это и есть та самая идеальная моральная ошибка. Всякое разумное существо, решившее до конца следовать своей разумности и стремлению к свободе, движется в направлении Голгофы. Важно уточнить, что приближение к Голгофе, а также страдания и мучительная смерть не являются целью сами по себе. В них есть смысл до тех пор, пока они являются признаками сознательного и бескорыстного следования требованиям категорического императива.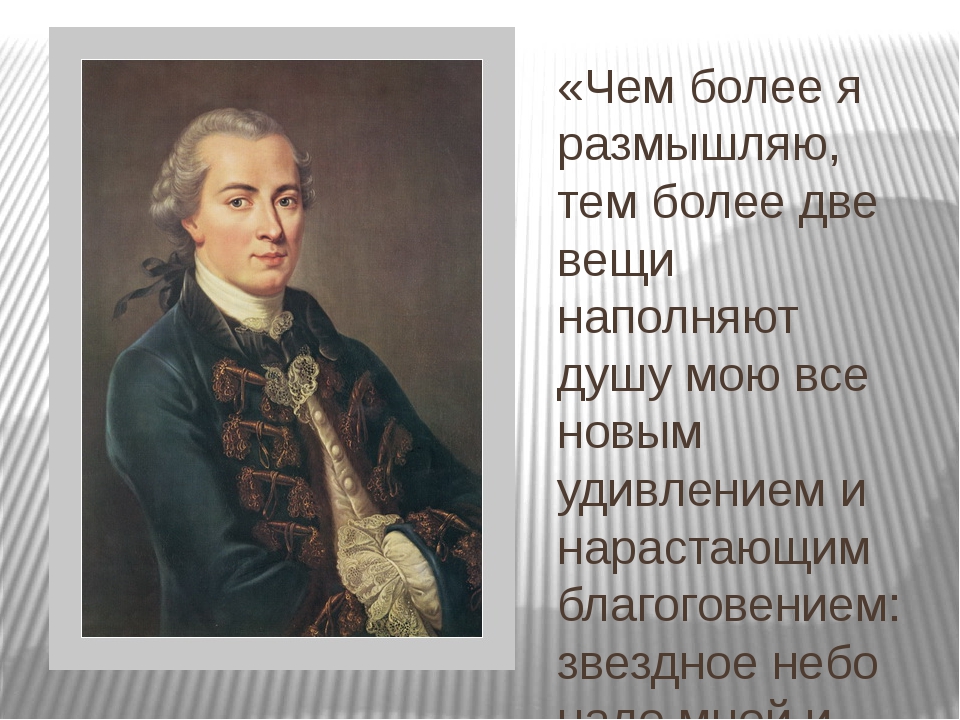
Согласно Канту, страх смерти в нас конкурирует со стремлением к морали как к высшей форме свободы. Мы хотели бы быть моральными, то есть совершать поступки, как будто мы бессмертны и неуязвимы. Другими словами, мы хотели бы быть свободными в своих действиях, подобно авраамическому Богу. В онтологии Фомы Аквинского существует благой Бог, независимый ни от кого. Будучи благим и полным любви, Бог из ничего создает вселенную. Вселенная существует потому, что Бог хочет, чтобы она существовала. В его силах прекратить существование вселенной, вернуть ее в ничто. Степень свободы от требований природы, которую подразумевает кантианское видение морали, сопоставима с божественной, как у Фомы. Для Канта речь идет о наиболее фундаментальном стремлении человека. Уже первый крик новорожденного свидетельствует о жажде свободы и одновременно свидетельствует и о жажде божественности. И в этом смысле кантианское уподобление Богу в акте морального действия, переведенное на язык восточного христианства, может быть интерпретировано как «обожение» — единение с божеством.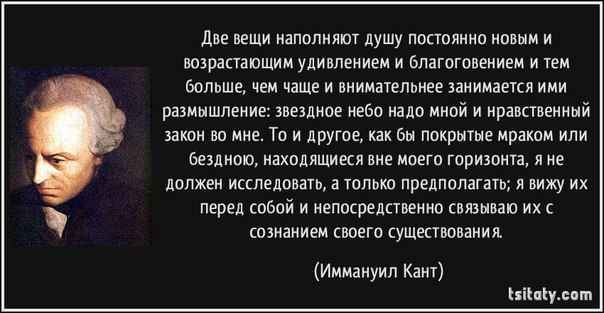
Связь предназначения человека со свободой позволяет по-новому взглянуть на описанный Кантом возвышенный аффект, возникающий уже от знакомства с примером морального поступка. Созерцая моральный поступок, человек мечтает вести себя так же свободно, как и Бог. В акте морального поступка он видит явление Бога в себе, что очень близко пониманию «обожения» у восточных христианских мистиков. Отличие христианской мистики, переполненной описаниями аффективных переживаний, связанных с приближением к Богу, от предложенной Кантом заключается в том, что философ обходит стороной вопрос о том, есть ли Бог или его нет. Есть возвышенный аффект, наполняющий нас священным трепетом. Есть разум, благодаря которому возвышенный аффект и трепет стали возможны. Учитывая глубину и мощь переживаний и их схожесть с тем, о чем пишут мистики, мы можем вынести фигуру Бога за скобки. В конечном итоге его может и не быть, но возвышенный аффект в силу специфики устройства человека останется на своем месте. Человек является частью природы, его положение ничем не отличается от положения зверя. Как зверь, живущий среди зверей, человек должен выживать, и отказ от выживания ведет только к смерти. При этом, как утверждает Кант, человек, в силу того что у него нет инстинктов, гарантирующих выживание, вынужден довольствоваться разумом, регулярно ошибающимся. Пока человек остается разумным ошибающимся зверем, ничего не изменится и мораль, как и тщеславие, будет его аффектировать.
Кантианская теория морального поступка также во многом совпадает с христианской теорией чуда. У Канта предназначение человека реализуется в момент осознанного нарушения логики выживания. Безумие и невероятность сознательного нарушения правил выживания, диктуемых картезианским здравым смыслом, как нетрудно заметить, совпадает с христианским представлением о чуде как о божественном вмешательстве в естественный ход вещей. Чудо нарушает логику, заключенную в законах природы. Чудо — уникальное единичное событие, которое, указав на Бога, исчезает, предоставляя природу в распоряжение законов. То же касается и морального поступка: утверждение Канта о том, что поступок, мотивированный категорическим императивом, — это событие, примера которому не было в истории, следует той же логике. Моральный поступок как чудо, как событие, указующее на явление божественного, присутствует и у философа, и у богословов. Разница, повторюсь, в том, что Кант аккуратно исключает фигуру Бога. Согласно ему, положение человека во вселенной таково, что для появления аффекта, равного по силе описанному мистиками, достаточно осознать, насколько опасно стремление к свободе, заложенное в нас.
То же касается и морального поступка: утверждение Канта о том, что поступок, мотивированный категорическим императивом, — это событие, примера которому не было в истории, следует той же логике. Моральный поступок как чудо, как событие, указующее на явление божественного, присутствует и у философа, и у богословов. Разница, повторюсь, в том, что Кант аккуратно исключает фигуру Бога. Согласно ему, положение человека во вселенной таково, что для появления аффекта, равного по силе описанному мистиками, достаточно осознать, насколько опасно стремление к свободе, заложенное в нас.
Стало быть, представление о Боге, доступное нам из рассуждений о категорическом императиве, можно уточнить до следующего: человек, мечтая о моральном поступке, мечтает о степени свободы, равной божественной. Бурный аффект, сопровождающий моральное действие, даже когда о нем просто говорят, равен — если не идентичен — предельным переживаниям мистиков. С точки зрения Канта, чтобы прикоснуться к божественному, следует или совершить моральный поступок, или стать его свидетелем. Возникающие при этом аффекты ни в коем случае не слабее аффектов, свойственных всем живым существам вообще. Переживание морали не уступает по своей интенсивности переживанию страха и гордости. Кроме равноценной интенсивности, уже достаточной для того, чтобы обосновать отказ от участия в традиционных ритуалах, переход на сторону аффектов, связанных с разумом, позволяет человеку исполнить свое предназначение, которое, как уже было указано, состоит в следовании морали.
Возникающие при этом аффекты ни в коем случае не слабее аффектов, свойственных всем живым существам вообще. Переживание морали не уступает по своей интенсивности переживанию страха и гордости. Кроме равноценной интенсивности, уже достаточной для того, чтобы обосновать отказ от участия в традиционных ритуалах, переход на сторону аффектов, связанных с разумом, позволяет человеку исполнить свое предназначение, которое, как уже было указано, состоит в следовании морали.
Как мы видим, переход к разумным аффектам является скорее не революционным ходом, а коррекционным. Благодаря ему архитектура эмоций в диапазоне от слабейших до предельных остается прежней. Кант не умертвляет чувства, не покушается на их архитектуру. Иерархия эмоций, которую Кант обнаруживал у религиозного человека, была не случайностью, обусловленной культурой, а закономерностью, обусловленной антропологией. Человек устроен таким образом, что аффективные переживания для него неизбежны. Предлагаемая Кантом корректировка состоит в следующем: раз уж аффект неизбежен, то пусть он будет союзником разума, а не противником. Пусть мораль как источник аффектов заменит нам наши тщеславие и гнев, станет источником подлинно возвышенных и подлинно человеческих поступков. Аффекты, связанные с религиозным ритуалом, поскольку они происходят не из разума, а из чувств, не являются человеческими и должны быть исключены, что логично. Кант предлагает отделить разумные аффекты от чувственных, как зерна от плевел, ни в коем случае не покушаясь на аффекты как таковые.
Пусть мораль как источник аффектов заменит нам наши тщеславие и гнев, станет источником подлинно возвышенных и подлинно человеческих поступков. Аффекты, связанные с религиозным ритуалом, поскольку они происходят не из разума, а из чувств, не являются человеческими и должны быть исключены, что логично. Кант предлагает отделить разумные аффекты от чувственных, как зерна от плевел, ни в коем случае не покушаясь на аффекты как таковые.
Ритуал как источник аффекта
Батай был согласен с общим просвещенческим тезисом о том, что человек выделен из природы и не способен находиться в ней в роли животного, «как вода в воде» [Батай 2006: 58–59]. Он согласен и с тем, что разум не равноценен инстинкту. При этом, в отличие от Канта, Батай не видит в слабости разума намека на иное предназначение, возвышающее человека над природой. Он не считает, что человек, получив в свое распоряжение разум, вместе с ним получил достойную стремления цель. Разум как несовершенная замена инстинкта просто усложняет выживание. Человек выживает, как и остальное живое, но у него нет инстинктов, автоматически приводящих к общей для всего живого цели. Ему сложнее, чем остальным зверям, и на этом отличия завершаются.
Человек выживает, как и остальное живое, но у него нет инстинктов, автоматически приводящих к общей для всего живого цели. Ему сложнее, чем остальным зверям, и на этом отличия завершаются.
В трактовке Батая благодаря разуму человек изъят из природы и страдает от этого [Батай 1997: 168–169]. Человек ищет дорогу обратно, желая снова стать частью природы, «водой в воде», как и всякое живое. Ищет при помощи разума, то есть, другими словами, разум ищет пути отмены себя, хотя бы временной. В логике Батая, отмена никогда не бывает окончательной, как и ослабление контроля, на котором настаивал Фрейд. Из этого поиска пути обратно в лоно природы — надо заметить, абсолютно терапевтического — и происходят религия и ритуал, в которых, по мысли Батая, разум обрел средство самоотрицания. Разуму нужен ритуал, чтобы на время избавиться от самого себя и вернуться в блаженное природное состояние, в котором человек пребывал до того, как стал человеком.
Видя в ритуалах способ достижения этого блаженного состояния, Батай оценивает их в зависимости от силы, с которой они отрицают разум, и приходит к выводу, что наиболее сильными являются первобытные ритуалы, а наиболее слабыми — ритуалы, используемые в современном ему христианском мире [Батай 2006: 246]. Следовательно, человек, желающий истинного блаженства, должен прибегать к первым и избегать вторых. Батай связывает первобытность с предельной чувственной экзальтацией, с нарушением табу и трансгрессивным переходом границ, установленных обществом. В последнем случае он очевидно следует за мыслью Фрейда, указывая на зависимость интенсивности переживания от дистанции: чем ближе к нарушению запрета, тем интенсивней переживание. Табу в данном случае производно от разума: если бы не было разума, не было бы и табу, как их нет у зверей, живущих инстинктами. Атакуя табу, человек атакует разум. Преодолевая табу, оказываясь по ту сторону рационального самосбережения, продиктованного себялюбием, человек ведет себя неразумно. Ритуальное нарушение запрета поражает разум, аффектирует его, тем самым позволяя человеку в кратчайший миг аффекта ощутить себя каплей воды в воде, окунуться с головой в природное блаженство.
Следовательно, человек, желающий истинного блаженства, должен прибегать к первым и избегать вторых. Батай связывает первобытность с предельной чувственной экзальтацией, с нарушением табу и трансгрессивным переходом границ, установленных обществом. В последнем случае он очевидно следует за мыслью Фрейда, указывая на зависимость интенсивности переживания от дистанции: чем ближе к нарушению запрета, тем интенсивней переживание. Табу в данном случае производно от разума: если бы не было разума, не было бы и табу, как их нет у зверей, живущих инстинктами. Атакуя табу, человек атакует разум. Преодолевая табу, оказываясь по ту сторону рационального самосбережения, продиктованного себялюбием, человек ведет себя неразумно. Ритуальное нарушение запрета поражает разум, аффектирует его, тем самым позволяя человеку в кратчайший миг аффекта ощутить себя каплей воды в воде, окунуться с головой в природное блаженство.
Очевидно, что Кант двигался в противоположном направлении: он отказывался от ритуала и выступал против первобытных оргий, превращающих людей в зверей, считая, что истинное призвание человека связано со следованием морали. Опять же, кантианский нравственный закон и его строгость в переводе на язык Батая совпадают с логикой табу. При близком рассмотрении категорический императив радикально противоположен табу. В фундаменте табу лежит экономическая и политическая логика, нацеленная на сбережение жизни. Нет никаких сомнений в том, что урон, наносимый человеку табу, огромен, и неврозы, описанные Фрейдом, свидетельствуют об этом. С другой стороны, следует понимать, что в случае с табу речь идет о малом уроне, наносимом для того, чтобы избежать смертельного урона. Урон табу — это сберегающий урон, нанесенный себе во имя себялюбия. Если вспомнить, насколько щепетилен был Кант в вопросе выбора мотивации для нравственного поступка, станет очевидно, насколько логика табу не совпадает с логикой категорического императива. С точки зрения философа, табу не хватает бескорыстности. Существование табу обусловлено природой, оно является решением задачи выживания для существа, чье сексуальное влечение не ограничено жесткими рамками инстинкта.
Опять же, кантианский нравственный закон и его строгость в переводе на язык Батая совпадают с логикой табу. При близком рассмотрении категорический императив радикально противоположен табу. В фундаменте табу лежит экономическая и политическая логика, нацеленная на сбережение жизни. Нет никаких сомнений в том, что урон, наносимый человеку табу, огромен, и неврозы, описанные Фрейдом, свидетельствуют об этом. С другой стороны, следует понимать, что в случае с табу речь идет о малом уроне, наносимом для того, чтобы избежать смертельного урона. Урон табу — это сберегающий урон, нанесенный себе во имя себялюбия. Если вспомнить, насколько щепетилен был Кант в вопросе выбора мотивации для нравственного поступка, станет очевидно, насколько логика табу не совпадает с логикой категорического императива. С точки зрения философа, табу не хватает бескорыстности. Существование табу обусловлено природой, оно является решением задачи выживания для существа, чье сексуальное влечение не ограничено жесткими рамками инстинкта. Категорический императив, в свою очередь, идет наперекор логике выживания. Если бы Кант допускал существование шкалы моральности, она возрастала бы по мере удаления от логики выживания. Уважение к морали, которое, с его точки зрения, настолько ценно, что превосходит любые остальные разумные аффекты, включая изумление, переполнено радостью освобождения от давления со стороны этой логики. Часто упоминаемое звездное небо и восхищение им в связке с категорическим императивом отсылают к свободе. Можно ли сравнить степень запрета, присвоенную Фрейдом табу, со звездным небом? Восхитительность внутреннего нравственного закона, о которой пишет Кант, противопоставлена запрету. Как бы парадоксально это ни звучало, но в этом пафос кантианской морали, очевидно, совпадает с пафосом ритуального преодолении табу у Батая. Суть в том, что табу защищает себялюбие, а мораль наносит ему урон. Или, яснее — табу защищает человека от опасности, исходящей от безудержной человеческой сексуальности, с той же степенью надежности, что и здравый смысл защищает человека от обаяния морали и стоящей за ней свободы.
Категорический императив, в свою очередь, идет наперекор логике выживания. Если бы Кант допускал существование шкалы моральности, она возрастала бы по мере удаления от логики выживания. Уважение к морали, которое, с его точки зрения, настолько ценно, что превосходит любые остальные разумные аффекты, включая изумление, переполнено радостью освобождения от давления со стороны этой логики. Часто упоминаемое звездное небо и восхищение им в связке с категорическим императивом отсылают к свободе. Можно ли сравнить степень запрета, присвоенную Фрейдом табу, со звездным небом? Восхитительность внутреннего нравственного закона, о которой пишет Кант, противопоставлена запрету. Как бы парадоксально это ни звучало, но в этом пафос кантианской морали, очевидно, совпадает с пафосом ритуального преодолении табу у Батая. Суть в том, что табу защищает себялюбие, а мораль наносит ему урон. Или, яснее — табу защищает человека от опасности, исходящей от безудержной человеческой сексуальности, с той же степенью надежности, что и здравый смысл защищает человека от обаяния морали и стоящей за ней свободы. Эти два запрета — на беспорядочную мораль и беспорядочную сексуальность — направлены в разные стороны. Запрет, который здравый смысл налагает на мораль, оберегает человека от того, чтобы стать Иисусом Христом, распятым на кресте в результате отказа следовать своему себялюбию. Запрет, налагаемый табу на сексуальность, защищает человека от участи Дон Жуана, лишенного жизни за неспособность сдерживать свои сексуальные порывы. Кантианская мораль ведет к крестным мукам и бесславной смерти, принципиально не гарантируя воскресения и вечной блаженной жизни взамен. Мы можем предположить, что подобного рода гарантии, с точки зрения философа, перевели бы поступок, совершенный себе в ущерб, из моральных в корыстные. Табу удаляет человека от опасностей, связанных с жизнью Дон Жуана, принуждает его так упорядочить свое влечение, чтобы оказаться на месте первосвященника.
Эти два запрета — на беспорядочную мораль и беспорядочную сексуальность — направлены в разные стороны. Запрет, который здравый смысл налагает на мораль, оберегает человека от того, чтобы стать Иисусом Христом, распятым на кресте в результате отказа следовать своему себялюбию. Запрет, налагаемый табу на сексуальность, защищает человека от участи Дон Жуана, лишенного жизни за неспособность сдерживать свои сексуальные порывы. Кантианская мораль ведет к крестным мукам и бесславной смерти, принципиально не гарантируя воскресения и вечной блаженной жизни взамен. Мы можем предположить, что подобного рода гарантии, с точки зрения философа, перевели бы поступок, совершенный себе в ущерб, из моральных в корыстные. Табу удаляет человека от опасностей, связанных с жизнью Дон Жуана, принуждает его так упорядочить свое влечение, чтобы оказаться на месте первосвященника.
В отличие от Батая, предлагающего вернуться к звериному состоянию, Кант предлагает бежать от него прочь. Созерцание возвышенных объектов — гор, океана, небосвода — служит ему для того, чтобы разум, придя в восхищение, напомнил себе о собственной инаковости. Созерцаемая природа не зовет человека слиться с ней, как об этом пишет Батай. Движение, которое Кант считает естественным результатом созерцания, имеет противоположную направленность. В его теории человеку следует наблюдать математически и динамически возвышенные объекты с тем, чтобы нагнетать в себе сознание собственной исключенности из природы. Батай видит в дистанции между человеком и природой источник страдания, в то время как Кант видит залог наивысшего наслаждения, сродни священному трепету, переживаемому мистиками в момент единения с божеством. Батай требует сократить эту дистанцию вплоть до слияния. Кант же, сохраняя верность просвещенческому культу разума, призывает ее увеличивать, стремясь уйти от природы. В теории Канта осознание своей исключенности ценно потому, что помогает человеку укрепиться в мысли о своем высшем предназначении, которая, в свою очередь, должна ему помочь выйти за рамки здравого смысла и совершить моральный поступок.
Созерцаемая природа не зовет человека слиться с ней, как об этом пишет Батай. Движение, которое Кант считает естественным результатом созерцания, имеет противоположную направленность. В его теории человеку следует наблюдать математически и динамически возвышенные объекты с тем, чтобы нагнетать в себе сознание собственной исключенности из природы. Батай видит в дистанции между человеком и природой источник страдания, в то время как Кант видит залог наивысшего наслаждения, сродни священному трепету, переживаемому мистиками в момент единения с божеством. Батай требует сократить эту дистанцию вплоть до слияния. Кант же, сохраняя верность просвещенческому культу разума, призывает ее увеличивать, стремясь уйти от природы. В теории Канта осознание своей исключенности ценно потому, что помогает человеку укрепиться в мысли о своем высшем предназначении, которая, в свою очередь, должна ему помочь выйти за рамки здравого смысла и совершить моральный поступок.
Несмотря на диаметральную противоположность теорий, следует заметить, что обе они стоят на общем фундаменте. Кант и Батай согласны в том, что человек — это смертный зверь, лишенный инстинктов, но наделенный разумом. Последнее устанавливает, как им кажется, непреодолимый барьер между человеком и природой. Ни у кого из них не вызывает сомнения уникальность разума, делающая уникальным человека как его носителя. Разум исключает человека из природы, ставит его отдельно и изолирует, не давая вернуться обратно. Главное отличие концепций в отношении к этой исключенности. Батай предлагает человеку стать зверем, испытав аффект, инициированный ритуалом; Кант предлагает на волне восхищения нравственным поступком преодолеть в себе звериное начало и окончательно стать человеком: единственным и исключительным существом, способным нанести урон своему себялюбию во имя свободы. Важно отметить, что и Батай, и Кант в конечном итоге предлагают свое видение счастья. Кант считает, что человек будет счастлив, как никогда, совершив моральный поступок. Батай настаивает на том, что счастье связано с ритуализированным нарушением морали, когда человек, потеряв себя в аффекте, на некоторое время становится зверем.
Кант и Батай согласны в том, что человек — это смертный зверь, лишенный инстинктов, но наделенный разумом. Последнее устанавливает, как им кажется, непреодолимый барьер между человеком и природой. Ни у кого из них не вызывает сомнения уникальность разума, делающая уникальным человека как его носителя. Разум исключает человека из природы, ставит его отдельно и изолирует, не давая вернуться обратно. Главное отличие концепций в отношении к этой исключенности. Батай предлагает человеку стать зверем, испытав аффект, инициированный ритуалом; Кант предлагает на волне восхищения нравственным поступком преодолеть в себе звериное начало и окончательно стать человеком: единственным и исключительным существом, способным нанести урон своему себялюбию во имя свободы. Важно отметить, что и Батай, и Кант в конечном итоге предлагают свое видение счастья. Кант считает, что человек будет счастлив, как никогда, совершив моральный поступок. Батай настаивает на том, что счастье связано с ритуализированным нарушением морали, когда человек, потеряв себя в аффекте, на некоторое время становится зверем. Кант видит истинное счастье в удалении человеческой природы от звериной, Батай — в слиянии.
Кант видит истинное счастье в удалении человеческой природы от звериной, Батай — в слиянии.
Картина аморальности и безжалостности природы, на которую изредка ссылается Кант [Кант 2007: 457], во многом совпадает с картиной, описанной Дарвином в его теории естественного отбора и Мальтусом в теории перенаселения. Человек, решивший жить морально, на самом деле решает предать себя смерти — в этом пафос Канта и основа его представления о величии морального поступка и человека, решившегося на него. В этом месте очевидна параллель между моральным человеком Канта и фигурой Иисуса Христа — самого известного примера следования морали, чья мучительная смерть стала прямым следствием решения следовать категорическому императиву вопреки требованиям самосохранения [Жирар 2010б: 181].
Как ни странно, Батай, двигаясь в противоположную сторону от Канта, также говорит об опасности. Согласно теории Фрейда, на которую всецело полагается Батай, существование табу обусловлено опасностью неудержимого влечения.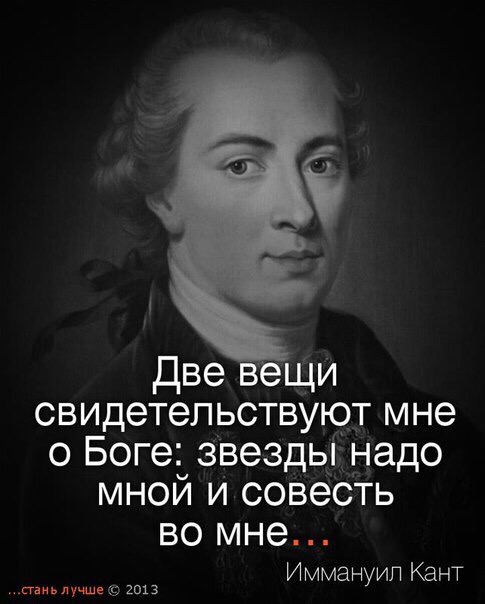 Влечение, свободно направляющее волю, ведет к смерти, и отсюда возникает система запретов и ритуалов, оформляющих их [Жирар 2010а: 137]. Запрет на сексуальность продиктован положением человека в космосе и в этом смысле идентичен негласному запрету на излишнюю моральность, о котором так много сожалеет Кант. В этом смысле стремление к морали схоже со стремлением к сексуальному удовольствию. Влечение не знает ограничения, поскольку не связано властью инстинкта. Вместо инстинкта им руководит разум, что, по мнению Канта, крайне ненадежно, а по мнению Батая — губительно. Мораль тоже является следствием разумности человека. Таким образом, разум, замещая собой инстинкты, становится причиной как морали, так и безграничного человеческого влечения. Кроме прямой и косвенной зависимости от разумности, мораль и влечение объединены смертоносностью. Беспорядочная сексуальность и беспорядочная моральность, игнорируя фундаментальный конфликт между человеком и природой, неизменно ведут к смерти, и в этом смысле мы можем говорить о перекличке между ними.
Влечение, свободно направляющее волю, ведет к смерти, и отсюда возникает система запретов и ритуалов, оформляющих их [Жирар 2010а: 137]. Запрет на сексуальность продиктован положением человека в космосе и в этом смысле идентичен негласному запрету на излишнюю моральность, о котором так много сожалеет Кант. В этом смысле стремление к морали схоже со стремлением к сексуальному удовольствию. Влечение не знает ограничения, поскольку не связано властью инстинкта. Вместо инстинкта им руководит разум, что, по мнению Канта, крайне ненадежно, а по мнению Батая — губительно. Мораль тоже является следствием разумности человека. Таким образом, разум, замещая собой инстинкты, становится причиной как морали, так и безграничного человеческого влечения. Кроме прямой и косвенной зависимости от разумности, мораль и влечение объединены смертоносностью. Беспорядочная сексуальность и беспорядочная моральность, игнорируя фундаментальный конфликт между человеком и природой, неизменно ведут к смерти, и в этом смысле мы можем говорить о перекличке между ними. Трансгрессия, о которой говорит Батай, может быть понята и как урон, наносимый самому себе [Танатография 1994: 117]. Сексуальное удовольствие, несмотря на кажущуюся связь с себялюбием, на самом деле, следуя логике Фрейда и Батая, скорее ему противопоставлено. Себялюбие требует самосохранения и, следовательно, требует упорядочивания. Себялюбие лимитирует сексуальное удовлетворение, попутно рождая пресловутые неврозы. Очевидно, что такому же ограничению подвергается и стремление к морали, чья способность к аффектации, если верить Канту, вполне сопоставима со способностью к аффектации, свойственной влечению. Стало быть, аморальность человека, предписываемая ему картезианским здравым смыслом, равна сексуальной неудовлетворенности, навязываемой человеку культурой. И там, и там речь идет о фундаментальных стремлениях, присущих человеку. Используя язык Фрейда, возможно говорить об алхимии эмоций, рожденной регулированием влечения к морали, и неврозах, следующих из этого регулирования. Там, куда Батай вслед за Фрейдом помещает вытесненную сексуальность, должны находиться и неудовлетворенное желание испытать уважение, и восторг от поступка, наносящего урон себялюбию.
Трансгрессия, о которой говорит Батай, может быть понята и как урон, наносимый самому себе [Танатография 1994: 117]. Сексуальное удовольствие, несмотря на кажущуюся связь с себялюбием, на самом деле, следуя логике Фрейда и Батая, скорее ему противопоставлено. Себялюбие требует самосохранения и, следовательно, требует упорядочивания. Себялюбие лимитирует сексуальное удовлетворение, попутно рождая пресловутые неврозы. Очевидно, что такому же ограничению подвергается и стремление к морали, чья способность к аффектации, если верить Канту, вполне сопоставима со способностью к аффектации, свойственной влечению. Стало быть, аморальность человека, предписываемая ему картезианским здравым смыслом, равна сексуальной неудовлетворенности, навязываемой человеку культурой. И там, и там речь идет о фундаментальных стремлениях, присущих человеку. Используя язык Фрейда, возможно говорить об алхимии эмоций, рожденной регулированием влечения к морали, и неврозах, следующих из этого регулирования. Там, куда Батай вслед за Фрейдом помещает вытесненную сексуальность, должны находиться и неудовлетворенное желание испытать уважение, и восторг от поступка, наносящего урон себялюбию.
В логике выживания и смертности, переступая через табу, человек сам и добровольно ставит себя под удар, рискуя лишиться жизни. Мы помним, что в случае морального поступка этот выход за рамки, гарантирующие безопасность, пробуждал в человеке аффект изумления, переходящий в восхищение и священный трепет. Сексуальная перверсия тоже подвергает жизнь риску. В этом смысле можно говорить о трансгрессивности категорического императива. И мораль, и нарушение табу отрицают границы между опасным поведением и безопасным. Насколько священный трепет Канта связан с умиранием, настолько и предельная аффектирующая сознание сексуальность намекает на смерть. Оба стремления оказываются выражением первейшего стремления человека: стремления ускользнуть от принуждения.
Трансгрессивность морали, о которой умалчивает Батай, открывает перед нами новые перспективы. Кант предполагает, что Бог вполне может существовать. Точка зрения Батая схожа. В теории Батая переживание божества связано с участием в ритуале и немыслимо вне его. Кант связывает существование Бога с набором представлений, свойственных разуму и немыслимых вне его. Ритуал у Батая и разум у Канта производят переживание присутствия Бога, оставляя открытым вопрос о том, есть ли он на самом деле. Соответственно, радикально меняется фон: место вездесущего Бога авраамических религий занимает смерть, существование которой неоспоримо и ужасно. Человек Батая и человек Канта живут в мире, окруженном смертью. Действия, которые совершают человек Канта и человек Батая, — это, прежде всего, действия смертного, рискующего расстаться с жизнью. Человек обречен на смерть, и единственное, что способно уберечь его от преждевременной смерти, — жесткое с переходом в жесточайшее табуирование сексуальности и морали. Или, если быть точнее, табуирование стремления к свободе, дающего о себе знать, как было сказано выше, уже в первом крике новорожденного. Смерть как фон проясняет рассуждения Батая о слиянии с природой и рассуждения Канта о моральном поступке. Теории предлагают смертному человеку две радикально отличные друг от друга стратегии приближения к смерти: нарушение правил в ущерб себялюбию и соблюдение правил в ущерб ему же.
Кант связывает существование Бога с набором представлений, свойственных разуму и немыслимых вне его. Ритуал у Батая и разум у Канта производят переживание присутствия Бога, оставляя открытым вопрос о том, есть ли он на самом деле. Соответственно, радикально меняется фон: место вездесущего Бога авраамических религий занимает смерть, существование которой неоспоримо и ужасно. Человек Батая и человек Канта живут в мире, окруженном смертью. Действия, которые совершают человек Канта и человек Батая, — это, прежде всего, действия смертного, рискующего расстаться с жизнью. Человек обречен на смерть, и единственное, что способно уберечь его от преждевременной смерти, — жесткое с переходом в жесточайшее табуирование сексуальности и морали. Или, если быть точнее, табуирование стремления к свободе, дающего о себе знать, как было сказано выше, уже в первом крике новорожденного. Смерть как фон проясняет рассуждения Батая о слиянии с природой и рассуждения Канта о моральном поступке. Теории предлагают смертному человеку две радикально отличные друг от друга стратегии приближения к смерти: нарушение правил в ущерб себялюбию и соблюдение правил в ущерб ему же.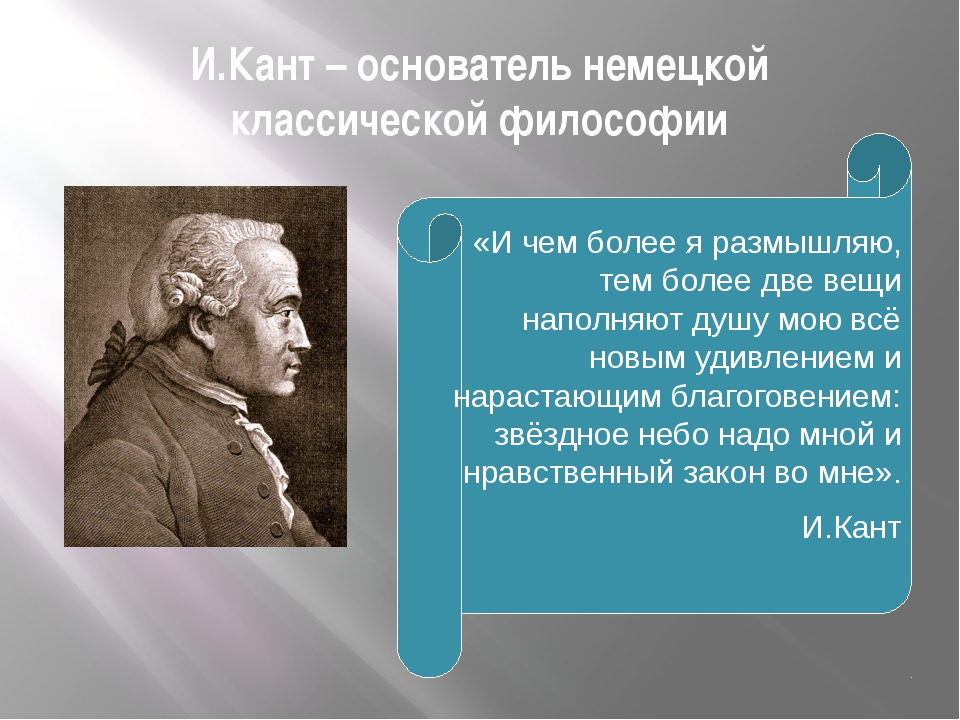 В обоих случаях человеку предписывают приблизиться к границе, отделяющей живое от неживого. Цель этого приближения — аффективные переживания, наполняющие разум смыслами сразу после того, как аффект рассеется. Речь идет о том, чтобы приблизиться к указанной черте и обрести силы для того, чтобы не перешагнуть через нее. В конечном итоге маятниковое приближение к смерти и удаление от нее позволяют человеку удовлетворить жажду осмысленности собственного существования.
В обоих случаях человеку предписывают приблизиться к границе, отделяющей живое от неживого. Цель этого приближения — аффективные переживания, наполняющие разум смыслами сразу после того, как аффект рассеется. Речь идет о том, чтобы приблизиться к указанной черте и обрести силы для того, чтобы не перешагнуть через нее. В конечном итоге маятниковое приближение к смерти и удаление от нее позволяют человеку удовлетворить жажду осмысленности собственного существования.
Отдельно стоит указать на описание страха смерти у обоих авторов. Кант заявляет, что моральный поступок редок и что вместо морального поступка человек предпочитает довольствоваться примерами моральных поступков, взятых из назидательной литературы. Это можно сопоставить с воображением сексуальных перверсий, описанных Батаем. Сексуальная перверсия, поскольку она опасна в не меньшей степени, чем моральный поступок, тоже редка и невозможна, и отсюда, к примеру, участие Батая в издании де Сада и работа над краткой биография Жиля де Ре. Оба перверта, де Сад и де Ре, совершили невозможное: разрешили себе сексуальную распущенность. Их пример, созерцание сюжетов, связанных с ними, вдохновлял Батая в том же смысле, что примеры мужества у Канта. Если Кант рекомендует возбуждать свои чувства примерами мужества, то Батай выходит из себя, медитируя над примерами перверсий и взаимного пожирания людей, утративших разум. Оба философа предлагают возвышающий аффект на роль ответа на «проклятые вопросы», дублируя тем самым религиозную картину мира. Как следует из рассуждений Канта о порядке мотивации морального поступка, простого теоретического утверждения о том, что человек, как разумное существо, обязан следовать за категорическим императивом, недостаточно. Поступок совершается не механически вслед за осознанием, достигнутым в ходе индуктивного и дедуктивного поиска, а на волне аффекта, сопутствующего осознанию. Собственно, все теоретизирование Канта об аффекте можно свести к поиску варианта осознания, гарантирующего высокую волну аффекта.
Оба перверта, де Сад и де Ре, совершили невозможное: разрешили себе сексуальную распущенность. Их пример, созерцание сюжетов, связанных с ними, вдохновлял Батая в том же смысле, что примеры мужества у Канта. Если Кант рекомендует возбуждать свои чувства примерами мужества, то Батай выходит из себя, медитируя над примерами перверсий и взаимного пожирания людей, утративших разум. Оба философа предлагают возвышающий аффект на роль ответа на «проклятые вопросы», дублируя тем самым религиозную картину мира. Как следует из рассуждений Канта о порядке мотивации морального поступка, простого теоретического утверждения о том, что человек, как разумное существо, обязан следовать за категорическим императивом, недостаточно. Поступок совершается не механически вслед за осознанием, достигнутым в ходе индуктивного и дедуктивного поиска, а на волне аффекта, сопутствующего осознанию. Собственно, все теоретизирование Канта об аффекте можно свести к поиску варианта осознания, гарантирующего высокую волну аффекта. Предельное переживание, пробужденное благодаря одной из описанных нами методик, должно вдохновить на шаг по ту сторону здравого смысла и себялюбия. То, что простой ссылки на очевидность недостаточно, прямо свидетельствует о мотивационной нищете теории и о необходимости дополнения ее мировоззрением. Последнее отличается от теории своей ориентацией не на пунктуальную точность истины, а на мотивацию. Вместе с тем важна предельная щепетильность Канта касательно порядка мотивации: мотивация необходима, но должна, считает Кант, следовать строго в рамках, выгодных разуму и морали, что косвенно указывает на просвещенческий романтизм Канта.
Предельное переживание, пробужденное благодаря одной из описанных нами методик, должно вдохновить на шаг по ту сторону здравого смысла и себялюбия. То, что простой ссылки на очевидность недостаточно, прямо свидетельствует о мотивационной нищете теории и о необходимости дополнения ее мировоззрением. Последнее отличается от теории своей ориентацией не на пунктуальную точность истины, а на мотивацию. Вместе с тем важна предельная щепетильность Канта касательно порядка мотивации: мотивация необходима, но должна, считает Кант, следовать строго в рамках, выгодных разуму и морали, что косвенно указывает на просвещенческий романтизм Канта.
Батай и Кант отрицали современные им культы, предлагая взамен проекты своих. Отрицание культов аргументировалось тем, что они не могут дать ответ на вопрос, зачем следует длить существование, которое в конечном итоге все равно оборвется. Ответ, о котором в данном случае идет речь, если пользоваться словарем Просвещения, относится не столько к сфере разума, сколько к чувствам. Он должен оживлять чувства, усиливать способность к действию. Батай заявляет об этом прямо, Кант — со множеством оговорок, жестко отличая священный трепет, связанный с моралью, от любого другого сильного переживания.
Он должен оживлять чувства, усиливать способность к действию. Батай заявляет об этом прямо, Кант — со множеством оговорок, жестко отличая священный трепет, связанный с моралью, от любого другого сильного переживания.
Библиография / Reference
[Батай 1997] — Батай Ж. Внутренний опыт / Пер. с фр., послесл. и коммент. С.Л. Фокина. СПб.: Axioma / МИФРИЛ, 1997.
(Bataille G. L’Expérience intérieure. Saint Peterburg, 1997. — In Russ.)
[Батай 2006] — Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / Пер. с фр. Сост. С.И. Зенкин. М.: Ладомир, 2006.
(Bataille G. La Part maudite. Moscow, 2006. — In Russ.)
[Декарт 1989] — Декарт Р. Сочинения. В 2 т. / Пер. с лат. и франц. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
(Descartes R. Sochineniya. Moscow, 1989.)
[Жирар 2010а] — Жирар Р. Насилие и священное / Пер. с фр. Григория Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
Насилие и священное / Пер. с фр. Григория Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2010.
(Girard R. La violence et le sacré. Moscow, 2010. — In Russ.)
[Жирар 2010б] — Жирар Р. Козел отпущения / Пер. с фр. Григория Дашевского; Предисл. А. Эткинда. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2010.
(Girard R. Le Bouc Emissaire. Saint Petersburg, 2010. — In Russ.)
[Кант 2002] — Кант И. Антропология с прагматической точки зрения. СПб.: Наука, 2002.
(Kant I. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Saint Petersburg, 2002. — In Russ.)
[Кант 2007] — Кант И. Критика практического разума. СПб.: Наука, 2007.
(Kant I. Kritik der reinen Vernunft. Saint-Petersburg, 2007. — In Russ.)
[Танатография 1994] — Танатография Эроса. Жорж Батай и французская мысль середины XX века / Пер. с фр. М.: МИФРИЛ, 1994.
(Tanatografiya Erosa. Zhorzh Batay i frantsuzskaya mysl’ serediny XX veka. Moscow, 1994.)
Коперниканский переворот в философии, совершенный Кантом. Кантовское понимание предмета философии.
Поможем написать любую работу на аналогичную тему
Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему учебному проекту
Узнать стоимостьКант (1724-1804) родился, учился и умер в г. Кенигсберге (Калининград). Свою должность (профессора) он занимал с высочайшего соизволения Елизаветы Петровны, следовательно, мы можем считать его русским философом (Восточная Пруссия была негласно под протекторатом России). В конце жизни Кант — ректор Кенигсбергского университета.
Творчество Канта — 2 периода:
1. Докритический.
2. Критический («Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения»).
Эволюционный подход в ранних работах Канта.
В докритический период Кант — последователь Лейбница-Вольфианской философии, которую он сам называл догматической: утверждение абсолютных предметов, отправляясь от интуиции (бог, душа).
Чем прославился Кант в докритический период:
1. Первая космогоническая система Канта-Лапласа.
2. Причины остановки вращения Луны.
3. Причины замедления вращения Земли.
4. Приливы и отливы
Коперниканский переворот в философии, совершенный Кантом.
Кант совершил коперниканский переворот: от внешнего мира — к человеку. Благодаря Канту предметами философии становятся общество, культура, история, человек. Если до Канта предметом философии был мир, то Кант смещает интерес на человека. Человек — первый и единственный предмет философии и философствования. «Философия — наука об отношении всякого разума к конечной цели человеческого разума».
Человек — первый и единственный предмет философии и философствования. «Философия — наука об отношении всякого разума к конечной цели человеческого разума».
Философию можно подвести под следующие вопросы:
1. Что я могу знать? (разум)
2. Что я должен делать? (этика)
3. На что я смею надеяться? (религия)
4. Что такое человек?
В сущности 3 первых вопроса можно свести к последнему.
Ответ: человек – строитель культуры. Каркас человека состоит из 3-х способностей:
1. Познавательная способность, которую мы прилагаем к природе (рассудок, логика, наука, размышление, основанное на фактах).
2. Практическая способность (способность желания, нравственная способность) имеет дело с тем, что должно быть.
3. Эстетическая способность
Человек для себя – последняя цель. Цель человека – самоосуществление. Долженствование – атрибутивный признак человека. Человек — это существо, которое всегда должно. «Ты должен Þ ты можешь». Люди, зацикленные на первой способности, этого не понимают. Первая способность — это закономерность; Вторая — это конечная цель, идеал. Благодаря своему Я человек и есть личность.
Человек — это существо, которое всегда должно. «Ты должен Þ ты можешь». Люди, зацикленные на первой способности, этого не понимают. Первая способность — это закономерность; Вторая — это конечная цель, идеал. Благодаря своему Я человек и есть личность.
Три максимы мыслящего человека:
1. Думать самому. Любое принуждение минимизирует человеческое в человеке.
2. Мыслить себя в общении с людьми на месте любого другого.
3. Всегда мыслить в согласии с самим собой.
Загадками является мир, в котором живет человек и сам человек. «Две вещи вызывают восхищение: звездное небо надо мною и нравственный закон во мне».
Внимание!
Если вам нужна помощь в написании работы, то рекомендуем обратиться к
профессионалам. Более 70 000 авторов готовы помочь вам прямо сейчас. Бесплатные
корректировки и доработки. Узнайте стоимость своей работы.
показывать: 10255075100200 21—30 из 159
Психическая болезнь начала XXI века
прямая ссылка 18 ноября 2009 | 18:48
прямая ссылка 19 октября 2009 | 22:12
прямая ссылка 30 января 2010 | 12:44
Лекарство от скуки.
прямая ссылка 15 октября 2009 | 18:18
Космос и Дэнис Куэйд.
прямая ссылка 09 ноября 2009 | 22:33
Космический ужас с приятным послевкусием.
прямая ссылка 03 февраля 2010 | 18:39
Симптомы Пандорума
прямая ссылка 13 ноября 2009 | 23:29
прямая ссылка 21 октября 2009 | 06:55
‘спасибо, порадовали’
прямая ссылка 21 октября 2009 | 23:41
Очередной приятный сюрприз!
прямая ссылка 19 октября 2009 | 02:43показывать: 10255075100200 21—30 из 159 |
HORIZON
Международный академический журнал «Horizon. Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора.
Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру рецензирования и экспертного отбора.
Издание рассчитано как на специалистов в области феноменологии и философской герменевтики, так и на широкий круг читателей, имеющих интерес к актуальной философской ситуации.
Целью журнала является формирование и поддержание общего коммуникативного пространства для исследователей, работающих сегодня в области феноменологии и близких к ней философских направлений.
Структура журнала «Horizon. Феноменологические исследования»:
Первый раздел — «Исследования» — содержит в себе оригинальные авторские статьи.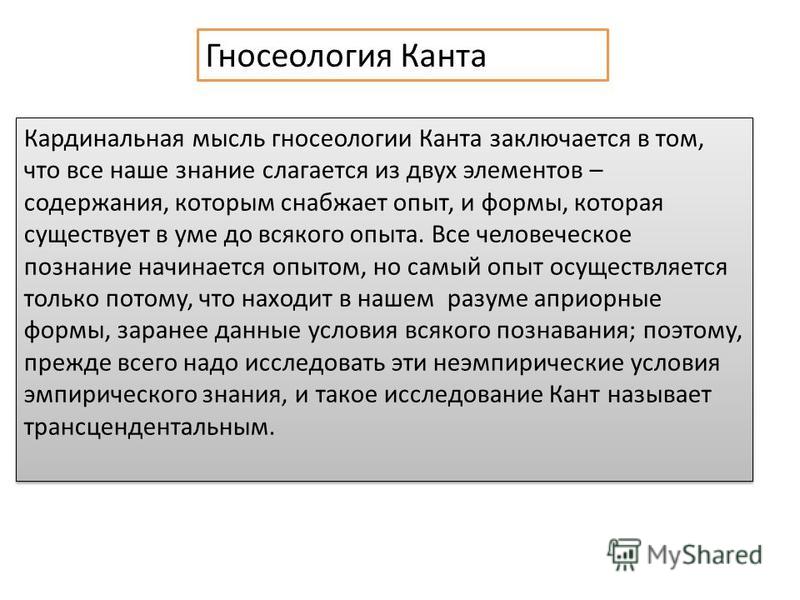 Журнал публикует только оригинальные исследования и статьи. В данном разделе материалы публикуются не только на русском, но также и на английском, немецком и французском языках без перевода. Редколлегия просит авторов, предоставляющих свои материалы на английском, немецком или французском языках присылать их уже в прошедшем корректировку у носителя соответствующего языка виде.
Журнал публикует только оригинальные исследования и статьи. В данном разделе материалы публикуются не только на русском, но также и на английском, немецком и французском языках без перевода. Редколлегия просит авторов, предоставляющих свои материалы на английском, немецком или французском языках присылать их уже в прошедшем корректировку у носителя соответствующего языка виде.
Второй раздел — «Переводы и комментарии» — представляет вниманию читателя переводы фрагментов текстов классиков или наиболее видных современных представителей феноменологического направления, а также философских направлений, близких к нему. Тексты переводов, как правило, сопровождаются экзегетическими комментариями. Цель данного раздела — обсудить главным образом малознакомые широкому читателю архивные документы, а также исследования, очерки, эссе авторов, вошедших в галерею мировой науки и философии. Публикация всех переводов в журнале «Horizon. Феноменологические исследования» согласована с правообладателями.
Третий раздел — «Дискуссии» — составлен из отчетов об уже прошедших научных мероприятиях, связанных с феноменологией, как в России, так и за рубежом, отзывов, полемических реплик, интервью и бесед. Редакционная коллегия журнала стремится к тому, чтобы подобные отчеты были не только информационными, но и аналитическими, и ставит перед собой цель тем самым интенсифицировать коммуникацию представителей феноменологического направления современной философии, создавать поле для актуальных дискуссий.
Четвертый раздел — «Рецензии» — составляется из отзывов на публикации по феноменологической тематике, увидевшие свет в течение последних пятнадцати лет. Раздел рецензий призван послужить представлению достойных научного читательского интереса книг, следуя общей цели журнала: совместными усилиями создавать единое мыслительное поле, поле живого общения и обмена новыми идеями.
Пятый раздел — «События» — включает в себя анонсы предстоящих событий, к которым относятся не только проведение научных мероприятий, семинаров, конференций, презентаций, но и выход в свет монографий, научных переводов, защита диссертаций и т.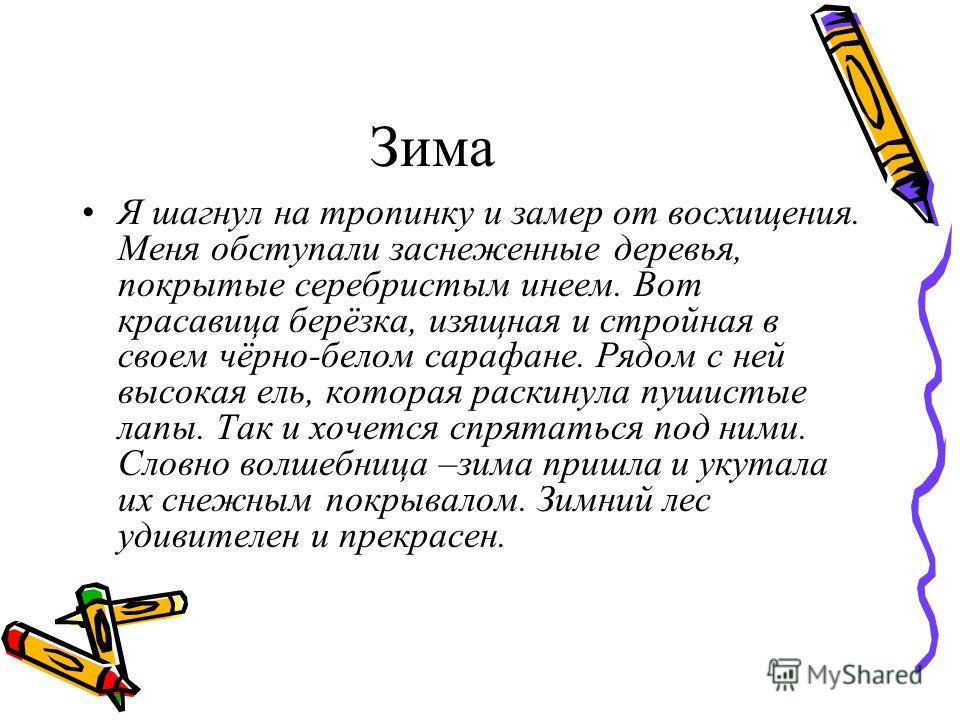 п., ссылки на интересные интернет-источники, справочную литературу.
п., ссылки на интересные интернет-источники, справочную литературу.
При подготовке специальных выпусков журнала редколлегия имеет право менять структуру журнала (в том числе сокращать количество разделов), а также приглашать со-редакторов для подготовки тематических выпусков.
Редколлегия журнала «Horizon. Феноменологические исследования» приглашает заинтересованных авторов присылать свои материалы для рассмотрения их на предмет возможной публикации в издании. К сотрудничеству приглашаются как российские, так и зарубежные исследователи.
Все материалы следует присылать на имя главного редактора журнала Артёменко Натальи Андреевны по адресу электронной почты: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Подробнее о целях и задачах журнала можно узнать из манифеста издания.
С правилами оформления материалов, предназначенных для публикации в журнале, можно ознакомиться в разделе «Для авторов». Обращаем внимание авторов, что редколлегия вправе отклонить рассмотрение рукописи к публикации, если она не оформлена согласно требованиям журнала. Допускается также ориентироваться авторам при оформлении своих работ на последний номер журнала.
Обращаем внимание авторов, что редколлегия вправе отклонить рассмотрение рукописи к публикации, если она не оформлена согласно требованиям журнала. Допускается также ориентироваться авторам при оформлении своих работ на последний номер журнала.
С основными положениями редакционной политики можно ознакомиться в разделе «Редакционная этика».
Журнал рассылается в ведущие университетские и исследовательские центры России и Европы.
Грэм Харман: «За эстетикой — будущее философии»
В июле на «Винзаводе» прошла лекция известного философа, профессора Американского университета в Каире Грэма Хармана. Представляем вниманию читателей COLTA.RU беседу, записанную перед тем выступлением.
Андрей Шенталь: В своем тексте «Эстетика как первая философия: Левинас и нечеловеческое» вы заявляете, что сегодня эстетика может претендовать на роль «исследовательской программы современной философии как таковой». Касается ли это исключительно современной философии?
Грэм Харман: Нет, можно проследить и дальше: от Канта к Аристотелю, чья «Поэтика» содержит множество бесценных вещей для всей философской мысли и не только эстетики в ее обыденном, ограниченном понимании.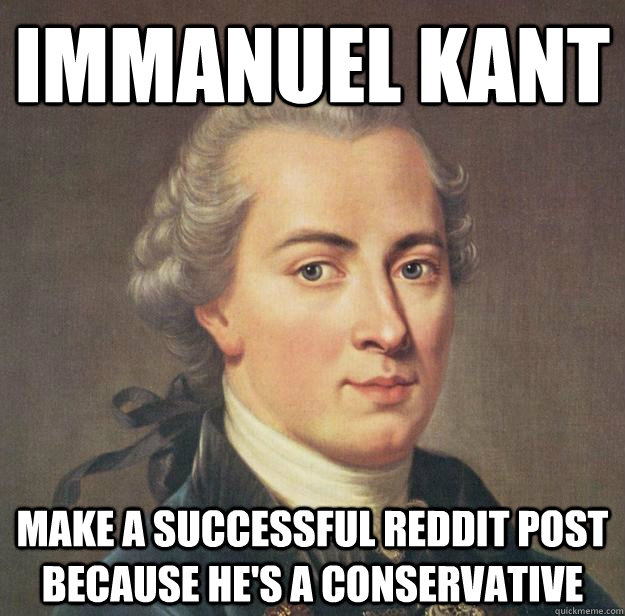 Большей частью современная философия — даже если мы говорим о континентальной традиции — недооценивает роль эстетики. Как мне представляется, сегодня происходит подъем новой волны неорационализма, и я не совсем согласен с этим подходом. Сюда можно отнести, например, неорационализм моего друга Квентина Мейясу. Его идея состоит в том, что математика открывает доступ к реальному. Не думаю, что это возможно. Для объектно ориентированной онтологии (ООО) реальное непереводимо в слова или математические формулы. Его не просто нельзя оформить в человеческий опыт или знание, оно непереводимо по определению, потому что та же проблема встает и перед взаимодействующими объектами. Перевод никогда не будет полноценным, будь то в природе, культуре или философии. Вот Сократ никогда ничего не знает. Философия не равносильна знанию, она — любовь к мудрости, любовь к тому, чем не может завладеть простой смертный.
Большей частью современная философия — даже если мы говорим о континентальной традиции — недооценивает роль эстетики. Как мне представляется, сегодня происходит подъем новой волны неорационализма, и я не совсем согласен с этим подходом. Сюда можно отнести, например, неорационализм моего друга Квентина Мейясу. Его идея состоит в том, что математика открывает доступ к реальному. Не думаю, что это возможно. Для объектно ориентированной онтологии (ООО) реальное непереводимо в слова или математические формулы. Его не просто нельзя оформить в человеческий опыт или знание, оно непереводимо по определению, потому что та же проблема встает и перед взаимодействующими объектами. Перевод никогда не будет полноценным, будь то в природе, культуре или философии. Вот Сократ никогда ничего не знает. Философия не равносильна знанию, она — любовь к мудрости, любовь к тому, чем не может завладеть простой смертный.
Эстетика важна для меня, потому что она — та сфера, где это касается каждого. Всем известно, что вы не можете превратить произведение искусства в обыденные утверждения. Вы, конечно, можете попытаться, но вам не удастся свести живопись Пикассо или Кандинского к набору повседневных высказываний, которые бы исчерпали ее смысл. Но в науке это возможно. Наука начинается с имен собственных вроде «электрона» и затем старается объяснить, что имена собственные значат в плане истинностных высказываний. Электрон наделен экспериментально измеренными качествами. Вы не можете так сделать с произведением искусства. Нельзя же сказать: «Это девятая из одиннадцати вещей, которые сообщает “Герника” Пикассо о том, почему Гражданская война в Испании — это плохо». Люди уже осознали, что произведение искусства не может быть переведено на простой язык, я же придерживаюсь такого взгляда на философию. Однако люди не разделяют этой точки зрения, потому что, согласно им, в таком случае философия становится произведением искусства. Но искусство наделено когнитивной ценностью, не будучи дискурсивно-прозаической дисциплиной, как наука.
Всем известно, что вы не можете превратить произведение искусства в обыденные утверждения. Вы, конечно, можете попытаться, но вам не удастся свести живопись Пикассо или Кандинского к набору повседневных высказываний, которые бы исчерпали ее смысл. Но в науке это возможно. Наука начинается с имен собственных вроде «электрона» и затем старается объяснить, что имена собственные значат в плане истинностных высказываний. Электрон наделен экспериментально измеренными качествами. Вы не можете так сделать с произведением искусства. Нельзя же сказать: «Это девятая из одиннадцати вещей, которые сообщает “Герника” Пикассо о том, почему Гражданская война в Испании — это плохо». Люди уже осознали, что произведение искусства не может быть переведено на простой язык, я же придерживаюсь такого взгляда на философию. Однако люди не разделяют этой точки зрения, потому что, согласно им, в таком случае философия становится произведением искусства. Но искусство наделено когнитивной ценностью, не будучи дискурсивно-прозаической дисциплиной, как наука.
Философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки.
Анастасия Шавлохова: Уравнивая философию и эстетику, вы приписываете философии чувственный опыт. Люди все время ждут от философии чего-то научного, что она апеллирует к когнитивному, а не чувственному опыту, потому что чувства — это удел поэзии. Мне нравится, как вы или, например, Мейясу соединяете философию с искусством или, более конкретно, с идеей метафоры.
Харман: Поскольку вы упомянули Мейясу, начну с него и покажу, в чем ООО расходится с ним по вопросу поэзии. Я высоко ценю его потрясающую книгу о Малларме, но если вы читали ее, то наверняка помните: он заканчивает на том, что секретный номер стихотворения — 707. Я глубоко убежден в его интерпретации в случае поэмы Малларме, но как применить это к другим текстам? Скрывается ли за каждым стихотворением секретное число? Очевидно, нет. Нам нужен более широкий подход, чтобы понять, чем же занимается поэзия. Я также скажу, что философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки. Принято считать (и это редко ставится под вопрос), что философию следует создавать по модели строгой геометрической дедукции, начиная с первой пропозиции, в которой нельзя усомниться, — «я мыслю, значит, существую» — и затем дедуцируя шаг за шагом. Но Альфред Норт Уайтхед указал на то, что дедукция — редкий случай в философии. Обычно же мы пытаемся обобщить опыт через философию. Как известно, Уайтхед сообщает нам, что философские учения прошлого не были опровергнуты, а лишь заброшены. С ними покончено не потому, что кто-то находит ошибочной их аргументацию, но потому, что они одновременно недостаточно объемлющи и недостаточно проницательны, чтобы описывать мир.
Я также скажу, что философия последние 400 лет рабски имитировала математику и науки. Принято считать (и это редко ставится под вопрос), что философию следует создавать по модели строгой геометрической дедукции, начиная с первой пропозиции, в которой нельзя усомниться, — «я мыслю, значит, существую» — и затем дедуцируя шаг за шагом. Но Альфред Норт Уайтхед указал на то, что дедукция — редкий случай в философии. Обычно же мы пытаемся обобщить опыт через философию. Как известно, Уайтхед сообщает нам, что философские учения прошлого не были опровергнуты, а лишь заброшены. С ними покончено не потому, что кто-то находит ошибочной их аргументацию, но потому, что они одновременно недостаточно объемлющи и недостаточно проницательны, чтобы описывать мир.
Интересно, что философии науки это было уже давно известно. Венгерский мыслитель Имре Лакатос, преподававший в Лондонской школе экономики, сделал репутацию, показывая, что научные теории уже изначально искажены, но все-таки люди продолжают их использовать, пока они представляют то, что он называет «прогрессивными» исследовательскими программами, способными продолжать прогнозировать. Например, мы продолжаем использовать теорию относительности и квантовую теорию в качестве основ для физики даже несмотря на то, что они взаимно несовместимы. Обе они хорошо работают каждая в своей сфере, и потому у нас нет ничего лучше. Тем не менее физика, как мы ее знаем, уже изначальна искажена из-за одного того факта, что два ее основных раздела противоречат друг другу.
Например, мы продолжаем использовать теорию относительности и квантовую теорию в качестве основ для физики даже несмотря на то, что они взаимно несовместимы. Обе они хорошо работают каждая в своей сфере, и потому у нас нет ничего лучше. Тем не менее физика, как мы ее знаем, уже изначальна искажена из-за одного того факта, что два ее основных раздела противоречат друг другу.
Хорошо, то же самое можно сказать и о философии. В каждой существующей философской системе можно обнаружить «плохие аргументы», а это значит, что методология англо-американской аналитической философии — которая основана на том, чтобы, обходя кругом, пробивать брешь в аргументах Платона, Аристотеля или Хайдеггера, — в каком-то смысле не относится к делу. Философия имеет влияние потому, что она широка, глубока и вызывает восторг, а не потому, что она может заранее зарубить на корню все контраргументы. Философское учение может быть заброшено не потому, что кто-то обнаруживает в нем ошибку (каждая гуманитарная теория, кроме математики, содержит ошибки, а философия — не математика), но оно может быть исчерпано, если не способно быть источником для новых открытий.
В вашем вопросе вы объединили науку и мудрость, но для меня они расположены на противоположных полюсах. Наука — на стороне знания, мудрость — на стороне философии и искусства. Мы должны почитать великих художников и поэтов так же, как и ученых. Неорационалистская тенденция современной философии не позволяет нам это сделать. Мейясу, Брассьер и люди, связанные с акселерационизмом, по-прежнему считают, что разум позволит нам разрушить более наивные убеждения. Они просто экстраполируют идеи Просвещения, неспособные предусмотреть никакие отклонения на пути истории. Брассьер заканчивает свою теорию мыслью, что все бессмысленно и бесполезно, потому что в итоге нас ожидает неизбежная тепловая смерть Вселенной. Я не думаю, что это правильное направление, потому что реальность всегда больше, чем то, что мы знаем или можем о ней сказать, и существование теории, что Вселенная умрет когда-нибудь, не значит, что «мы уже мертвы», как неправдоподобно заявляет Брассьер.
Лекция Грэма Хармана на «Винзаводе»© ЦСИ ВинзаводНо давайте поговорим, почему я считаю, что знание, как оно выражается в дискурсивной прозаической терминологии, не есть подходящая модель для философии. Проблема лежит глубже знания, которое всего лишь говорит об отношениях между людьми и миром. Существуют также объект-объектные взаимодействия за пределами гуманитарных наук, и начиная со времен Канта философия перестала говорить о таких отношениях. Ранее я писал о взаимодействии огня и хлопка, это позаимствовано из исламской средневековой философии. Огонь не взаимодействует со всеми свойствами хлопка; хлопок значительно богаче, чем то, что о нем «знает» огонь. Это не значит, что огонь «сознателен», а значит лишь то, что огонь взаимодействует с другими свойствами хлопка. И здесь прослеживается очевидная связь между этой непрямой казуальностью и эстетикой, которая также не подразумевает прямого доступа к миру. Я считаю, что за эстетикой — будущее философии.
Проблема лежит глубже знания, которое всего лишь говорит об отношениях между людьми и миром. Существуют также объект-объектные взаимодействия за пределами гуманитарных наук, и начиная со времен Канта философия перестала говорить о таких отношениях. Ранее я писал о взаимодействии огня и хлопка, это позаимствовано из исламской средневековой философии. Огонь не взаимодействует со всеми свойствами хлопка; хлопок значительно богаче, чем то, что о нем «знает» огонь. Это не значит, что огонь «сознателен», а значит лишь то, что огонь взаимодействует с другими свойствами хлопка. И здесь прослеживается очевидная связь между этой непрямой казуальностью и эстетикой, которая также не подразумевает прямого доступа к миру. Я считаю, что за эстетикой — будущее философии.
Наиболее распространенную критику моих идей можно обобщить примерно так: «вы говорите, что реальность не X, Y или Z». Но если вы обратите внимание на историю негативной теологии, вы обнаружите, что она не только негативна, она еще и метафорична. Возьмите, например, Псевдо-Дионисия, первого негативного теолога Средневековья, кем бы он ни был (по сути, мы лишь «негативно» знаем, что он не был новозаветным Дионисием Ареопагитом). Псевдо-Дионисий не просто говорит нам, что триединство Троицы — за пределами человеческого понимания. Он также говорит: представьте дом с тремя лампами и одним светом, происходящим от них. В таком случае мы не можем сказать, какая часть света исходит из какой лампы, но это все равно один свет, льющийся из трех отдельных источников. Даже если вы не признаете теологию и не интересуетесь Богом, эта метафора останется красивой, и она, делая намек, поясняет кое-что о Троице и о том, как она может работать. Это не просто негативно. Между негативным знанием и позитивным знанием, которое производится в высказываниях, есть и вещь третьего сорта — метафорическое, непрямое знание, которое так важно для всего, что бы мы ни делали. Мы используем его в повседневной речи, в которой мы не объясняем все точно. Если кто-то шутит, никто не поясняет шутку обычным языком, так как это ее разрушит.
Возьмите, например, Псевдо-Дионисия, первого негативного теолога Средневековья, кем бы он ни был (по сути, мы лишь «негативно» знаем, что он не был новозаветным Дионисием Ареопагитом). Псевдо-Дионисий не просто говорит нам, что триединство Троицы — за пределами человеческого понимания. Он также говорит: представьте дом с тремя лампами и одним светом, происходящим от них. В таком случае мы не можем сказать, какая часть света исходит из какой лампы, но это все равно один свет, льющийся из трех отдельных источников. Даже если вы не признаете теологию и не интересуетесь Богом, эта метафора останется красивой, и она, делая намек, поясняет кое-что о Троице и о том, как она может работать. Это не просто негативно. Между негативным знанием и позитивным знанием, которое производится в высказываниях, есть и вещь третьего сорта — метафорическое, непрямое знание, которое так важно для всего, что бы мы ни делали. Мы используем его в повседневной речи, в которой мы не объясняем все точно. Если кто-то шутит, никто не поясняет шутку обычным языком, так как это ее разрушит. Если кто-то намекает на что-то, никто никогда не изложит намек прямым высказыванием, потому что его лучше оставить недосказанным.
Если кто-то намекает на что-то, никто никогда не изложит намек прямым высказыванием, потому что его лучше оставить недосказанным.
В фильме «Крестный отец» дон Вито Корлеоне, которого играет Марлон Брандо, всегда говорит: «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться». Пугает то, что угроза неконкретна. Если бы он вместо этого сказал: «Если этот человек не сделает то, что я говорю, я отрублю голову его лошади и ночью ее подложу к нему в комнату» (что и происходит в фильме). Это не страшно, это гротеск. Страшна неопределенность. Нам нужно больше неопределенности, больше пространства для инсинуации, больше того, что я называю «аллюром». Идея аллюра — это нечто, что притягивает к себе, не сообщая при этом, что это такое, хотя ты и знаешь кое-что об этом. Это именно то, что открыл Сократ.
Шавлохова: А вы не боитесь обвинений в спекуляции, духовности или даже мистицизме?
Харман: Моя философия хоть и спекулятивна, но уж точно не мистична, потому что мистический опыт также подразумевает, что у вас есть прямой доступ к реальности. Это просто-напросто прямой доступ, но другими средства и концепциями. Как я могу быть мистиком, когда я утверждаю обратное? Метафорический доступ к реальности — это лучшее, что мы имеем, и метафора лишь наполовину чувственна, в то время как ее вторая половина реальна: и для меня реальное — это то, что недоступно напрямую. К сожалению, у меня никогда нет в заготовках хорошей метафоры, так что давайте возьмем скучный пример из Макса Блэка: «Человек — это волк». Что это значит? Вы не можете описать это буквально. Возможно, вы можете попытаться объяснить: «Эта метафора означает, что все люди подобны волкам — жестоки, склонны выстраивать иерархии и перемещаться агрессивными стаями». В прозе это звучит достаточно банально. Как прямое утверждение, оно довольно глупо, но метафорически оно немного лучше — именно потому, что вы не до конца знаете, что оно означает. В метафоре объект и его свойства распадаются. И раскол между объектами и их качествами — это и есть основание объектно ориентированной философии.
Это просто-напросто прямой доступ, но другими средства и концепциями. Как я могу быть мистиком, когда я утверждаю обратное? Метафорический доступ к реальности — это лучшее, что мы имеем, и метафора лишь наполовину чувственна, в то время как ее вторая половина реальна: и для меня реальное — это то, что недоступно напрямую. К сожалению, у меня никогда нет в заготовках хорошей метафоры, так что давайте возьмем скучный пример из Макса Блэка: «Человек — это волк». Что это значит? Вы не можете описать это буквально. Возможно, вы можете попытаться объяснить: «Эта метафора означает, что все люди подобны волкам — жестоки, склонны выстраивать иерархии и перемещаться агрессивными стаями». В прозе это звучит достаточно банально. Как прямое утверждение, оно довольно глупо, но метафорически оно немного лучше — именно потому, что вы не до конца знаете, что оно означает. В метафоре объект и его свойства распадаются. И раскол между объектами и их качествами — это и есть основание объектно ориентированной философии. Вы никогда не можете свести объект к его свойствам или свести объект к его видимости. Весь объект всегда несколько погружен в фон. Метафора берет качества одного объекта и переносит их на другой, и никто не может высказать это обычным языком.
Вы никогда не можете свести объект к его свойствам или свести объект к его видимости. Весь объект всегда несколько погружен в фон. Метафора берет качества одного объекта и переносит их на другой, и никто не может высказать это обычным языком.
Я бы сказал, что мистики и ученые заодно против меня. Они тоже думают, что могут достичь реальности через транс, молитвы, кристаллы, кислоту, что бы там они ни употребляли.
Так как мы находимся на бывшем заводе по производству вина, приведу в пример американского аналитического философа Дэниэла Деннета: его можно назвать предельно редукционистским мыслителем, который пытается свести все искусство винной дегустации к четкому прозаическому описанию. Деннет цитирует винного критика — реально существующего или выдуманного, — который описывает вино так: «Вычурный и бархатистый пино, но ему не хватает выдержки». Деннет говорит, что это глупо и претенциозно. Настоящая винная критика, по его мнению, — это когда вы наливаете вино в аппарат и аппарат выдает вам точную химическую формулу. Хотелось бы, чтобы сегодня с нами была моя жена — она ученый, специализирующийся в области пищи, а значит, проводит одновременно и химический, и чувственный анализ. Но между ними что-то остается. Вам необходим язык винной дегустации, который предложил нам критик вина, несмотря на то что Деннет ошибочно полагает, что он нелегитимен. «Вычурный и бархатистый пино, которому не хватает выдержки» может быть очень хорошим описанием вина. От него ни в коем случае нельзя отказаться в пользу научного описания.
Хотелось бы, чтобы сегодня с нами была моя жена — она ученый, специализирующийся в области пищи, а значит, проводит одновременно и химический, и чувственный анализ. Но между ними что-то остается. Вам необходим язык винной дегустации, который предложил нам критик вина, несмотря на то что Деннет ошибочно полагает, что он нелегитимен. «Вычурный и бархатистый пино, которому не хватает выдержки» может быть очень хорошим описанием вина. От него ни в коем случае нельзя отказаться в пользу научного описания.
Да, нам может встретиться и претенциозный дегустатор вина, который использует вычурные фразы, не ведая того, что сам говорит. Но претензия — это просто профессиональный риск, с которым сталкиваются представители гуманитарных наук и искусства. Ученые же не рискуют оказаться претенциозными, они рискуют оказаться скучными, догматичными или заносчивыми. Вы практически никогда не встретите претенциозного ученого, хотя легко найти сколько угодно претенциозных философов, художников и художественных критиков. Это наш риск, потому что мы должны использовать язык косвенным образом. И да, всегда есть риск, что кто-нибудь скажет нечто, не зная того, о чем он, черт побери, говорит. Но это следует разбирать на конкретных примерах. Есть винные критики, которым вы начинаете доверять со временем, а других вы отвергаете как дерьмовых художников. Вкус — очень сложный процесс. ООО метафорична, но не «мистична». В ней нет ничего трансцендентного в старомодном смысле этого слова, она не пытается заполучить прямой доступ. И чувственный опыт также неадекватен, потому что всегда есть нечто большее, более глубокое, чем могут уловить чувства. Мы не можем четко сформулировать это. Я бы сказал, что мистики и ученые заодно против меня. Они тоже думают, что могут достичь реальности через транс, молитвы, кристаллы, кислоту, что бы там они ни употребляли.
Шенталь: Как мне кажется, ваша философия пользуется успехом именно потому, что в сфере искусства последние десятилетия господствовали социология, исследования культуры и т. д., которые и определяли дискурс об искусстве. Вместо этого ООО предлагает теорию, учитывающую само искусство, а не просто его контекст. Как вам кажется, меняется ли ситуация в последнее время?
д., которые и определяли дискурс об искусстве. Вместо этого ООО предлагает теорию, учитывающую само искусство, а не просто его контекст. Как вам кажется, меняется ли ситуация в последнее время?
Харман: Возможно. Правда, я не уверен, что художники действительно понимают, почему их интересует ООО. Но некоторые понимают ее неверно. Пит Вульфендейл, мой наиболее суровый критик, всегда передразнивает меня, говоря, что художники просто создают неодадаистские работы из-за ООО. Они помещают в галерее объекты и думают, что это «объектно ориентировано». Некоторые и вправду так делают, это неверная трактовка, но в этом нет ничего такого. Не думаю, что мне следует контролировать неверные трактовки, лучше вместо этого немного подождать и посмотреть, так как недопонимание тоже может открыть интересное направление.
Для меня «объект» не означает некую цельную вещь, расположенную по центру комнаты. Мое понимание объекта намного шире.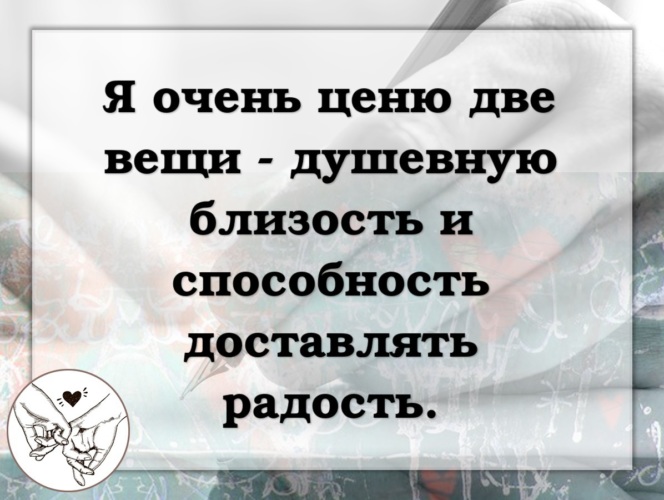 Перформанс может быть объектом. Объект не обязательно должен быть долговечным физическим телом; в моем понимании это что угодно, что не сводится к вещам и их последствиям. Это нечто между ними. Покуда что-либо не сводится к тому или иному, оно обладает реальностью, которая непрозрачна для нашего понимания и которую можно постичь только косвенно.
Перформанс может быть объектом. Объект не обязательно должен быть долговечным физическим телом; в моем понимании это что угодно, что не сводится к вещам и их последствиям. Это нечто между ними. Покуда что-либо не сводится к тому или иному, оно обладает реальностью, которая непрозрачна для нашего понимания и которую можно постичь только косвенно.
Вы упомянули чрезмерное влияние социологии и исследований культуры на искусство, но также можно вспомнить и политику. Насколько я вижу, люди искали антидот этому, новый тренд. Хоть в сегодняшней лекции я и расскажу о формализме, я не столь аполитичен, как представляют некоторые люди, и не согласен с тем, что политика должна быть изгнана из искусства. На самом деле я предложу критику формализма, это для меня новое направление. На протяжении последних двух лет я медленно отходил от него. Здесь, в России, у вас есть великая формалистская традиция, уходящая корнями в начало XX века: Виктор Шкловский и другие. Что касается США, там она связана с такими художественными критиками, как Клемент Гринберг или Майкл Фрид; они прекрасны, но неправы по ряду вещей.
В таких работах нет ни эстетики, ни политического вызова; вы просто размахиваете флагом, чтобы показать, что принадлежите к уже полностью сформированной группе и разделяете ее взгляды.
В частности, Фрид «антитеатрален», в то время как для меня театр — само основание искусства. Участие людей необходимо. Но это вовсе не значит, что все политические заявления приводят к хорошим произведениям искусства: на самом деле большинство из них этого не делает. Большинство политизированных произведений искусства — пропаганда той или иной идеологии, которая уже и так представлена в книгах, и таким образом искусства не открывают новых политических возможностей. К примеру, несколько лет назад я посетил выставку — не скажу какую, — где большинство работ сетовало на то, как плохи Израиль и США. Хорошо, может быть, у художника есть законные основания, чтобы презирать политику двух этих стран, — хотя скорее всего художник просто повторяет то, что сказали об этом другие, не продумав полностью, потому как во многих коллективах интеллектуалов, если ты выражаешь презрение к США и Израилю, ты имеешь ощутимые социальные преимущества. Но в любом случае зачем же наполнять весь зал работами о том, в чем вы уверены, а все сознательные и достойные люди и так уже думают, что США и Израиль — ужасные страны, несправедливо убивающие людей? Вы ничем не рискуете, делая подобные высказывания среди левых художников и интеллектуалов. В таких работах нет ни эстетики, ни политического вызова; вы просто размахиваете флагом, чтобы показать, что принадлежите к уже полностью сформированной группе и разделяете ее взгляды. Это не более чем пропаганда, просто и ясно. Сейчас может оказаться, что это настоящая пропаганда, но даже если кто-то может доказать, что «да, художник был прав: США и Израиль более ответственны за жестокость, чем другие нации», это совсем не значит, что произведение обладает эстетической ценностью или истиной. Почему никто не сделает работу, которая бы объяснила нам, что «Земля удалена от Солнца примерно на 150 миллионов километров»? Она обладала бы информативно-образовательной ценностью, но скорее всего не имела бы эстетической.

Шенталь: А что вы скажете о русской формалистской традиции, которую вы упомянули? Идея остранения, как мне кажется, перекликается с вашим понятием «аллюра».
Харман: Да, вполне возможно. Мой друг, архитектор Дэвил Ру, пару лет назад посоветовал мне Шкловского, когда его «Теория прозы» начала обсуждаться в Америке. Но одновременно с этим я чувствую близость со Станиславским. Сегодня, например, я буду говорить о театральной сущности произведений искусства, так что он становится для меня важнее и важнее. Возможно, в обозримом будущем я напишу большой текст о Станиславском.
А вообще я заметил, что в России меня встречают теплее, чем где-либо еще. Я задумался, почему так происходит. Мое предположение — между Россией и Америкой имеется резонанс, так как обе страны расположены на границах Европы: мы не то чтобы в центре европейской цивилизации, но все являемся ее частями. Это странное, но плодотворное отношение к цивилизации — вдохновляться идеями, выработанными в европейском контексте, которые не совсем подходят для наших собственных ситуаций, а потому должны быть частично видоизменены.
Шавлохова: У меня есть и другое предположение. Недавно я перечитывала «Войну и мир» и обратила внимание, что в своем описании Наполеона и Кутузова Толстой почти не говорит о них как о людях, но сосредоточен на окружающих их объектах. Если западная философская традиция была основана на исключении, русская литературная традиция, напротив, включала всех: и людей, и объекты.
Харман: Если мы полагаем, что европейская мысль основана на исключении, то я придерживаюсь мысли, что модернизм искусственно разделяет сознание и окружающую действительность. Модернизм начинается с разделения природы и культуры, попытки очистить одно от другого. Это невозможно. Именно по этой причине Бруно Латур для меня — самый важный послевоенный философ, хотя я знаю, что для многих он не более чем социолог. Просто он лучше всех диагностирует модерность. По его мнению, очистить сознание от мира невозможно, потому что они полностью сплетены. Он начинает с того, что помещает людей и объекты на один и тот же уровень, — вот почему его философию можно назвать плоской онтологией.
Он начинает с того, что помещает людей и объекты на один и тот же уровень, — вот почему его философию можно назвать плоской онтологией.
Ученые ненавидят его, потому что, по их мнению, он сводит науку к социологии. На самом же деле, я думаю, Латур сам напрашивается на такую критику, потому что, выбрав изначальную идею, он движется в неправильном направлении. Неправильный путь можно обобщить: вы не можете очистить мир от мышления, они всегда перемешаны, и потому вы не можете рассуждать о мире в себе, мире, не контаминированном людьми. Но такой способ изложения идей Латура не совсем верен. В своей книге «Нового времени не было» он показывает, что вы не можете создать таксономию, где бы мир состоял из (а) людей и (б) всего остального. Многие сущности на самом деле являются гибридными соединениями человеческих и нечеловеческих субстанций. Но из этого не следует, что вы не можете говорить о чем-либо, кроме взаимодействия с людьми. Можно создать научную теорию Большого взрыва, но нельзя же свести Большой взрыв к социологии ученых и неодушевленных сущностей, использованных этими учеными, чтобы создать теорию Большого взрыва. Кроме тех аппаратов, которые позволяют познать его, существует и сам Большой взрыв. Есть реальность вне человека, и на самом деле сами эти люди — реальность вне людей. Вам кажется это парадоксальным? В начале своей книги «Новая философия общества» Мануэль Де Ланда разрешает этот мнимый парадокс. Он говорит, что хочет создать реалистическую теорию общества, что значит — теорию общества вне людей. Для некоторых это безумно и невозможно: ведь как можно писать социологию без людей? А он отвечает: общество без людей невозможно, но все равно есть общество вне зависимости от попытки познать его. Другими словами, тот факт, что люди — компоненты (ingredients) общества, не значит, что общество — не более чем то, что говорят о нем наблюдающие за ним люди. Если общество исчерпывается тем, что о нем пишут социологи, тогда эта дисциплина закончилась бы еще во времена Макса Вебера — величайшего социолога.
Кроме тех аппаратов, которые позволяют познать его, существует и сам Большой взрыв. Есть реальность вне человека, и на самом деле сами эти люди — реальность вне людей. Вам кажется это парадоксальным? В начале своей книги «Новая философия общества» Мануэль Де Ланда разрешает этот мнимый парадокс. Он говорит, что хочет создать реалистическую теорию общества, что значит — теорию общества вне людей. Для некоторых это безумно и невозможно: ведь как можно писать социологию без людей? А он отвечает: общество без людей невозможно, но все равно есть общество вне зависимости от попытки познать его. Другими словами, тот факт, что люди — компоненты (ingredients) общества, не значит, что общество — не более чем то, что говорят о нем наблюдающие за ним люди. Если общество исчерпывается тем, что о нем пишут социологи, тогда эта дисциплина закончилась бы еще во времена Макса Вебера — величайшего социолога.
Кто-то спросил меня, каким же будет искусство без людей.
На несколько минут меня озадачил этот вопрос, но затем я понял, что это просто очень плохая, даже ужасная идея.
А вот Клемента Гринберга я бы назвал одним из самых выдающих американских интеллектуалов XX века. Он был «интеллектуальным крестным отцом», способствовав перемещению авангарда из Парижа в Нью-Йорк в конце 1940-х (это тоже одна из причин, почему он раздражает многих европейцев). С 1947—1948 года Нью-Йорк становится столицей искусства благодаря Джексону Поллоку и другим художникам, которых продвигал Гринберг. Во многих отношениях он — показательная фигура в формализме: и в изобразительном искусстве, и в критике. По его мнению, современная живопись признавала плоскостность холста. Европейская живопись начиная с Ренессанса создавала трехмерные иллюзии реалистических сцен, увиденных как будто бы через окно. Ко временам Моне, в 1850-е, живопись начала уплощаться, потому что достигла границ пикториального иллюзионизма. У импрессионистов это еще более очевидно, чем у Моне, и попытка Сезанна восстановить глубину импрессионистской техники проясняет этот процесс. За этим следовал аналитический кубизм Пикассо и Брака, самое плоскостное искусство Запада начиная с византийских икон. Примерно так Гринберг описывает эту историю.
За этим следовал аналитический кубизм Пикассо и Брака, самое плоскостное искусство Запада начиная с византийских икон. Примерно так Гринберг описывает эту историю.
Майкл Фрид продолжает гринбергианскую тенденцию, при этом добавляя новые детали. В 1967 году он пишет свое знаменитое эссе «Искусство и объектность» (кстати, я собираюсь написать книгу «Искусство и объекты», где я бросаю вызов его теории). Фрид говорит, что минимализм сталкивается с проблемой — в первую очередь, это минималистские скульптуры, представляющие собой не более чем белые блоки, расположенные в центре зала. Он считает, что у этой проблемы есть два названия — буквализм и театральность, но я настаиваю на их различении. Обвинение в «буквализме», которое он предъявляет минималистскому искусству, значит, что оно не обладает эстетической глубиной. Вы получаете ровно то, что вы видите. Это не более чем буквальные объекты, размещенные в зале. Таким образом, поскольку произведение искусства не обладает глубиной, единственное, что ему остается, — вызывать реакцию у зрителей. Это театральность. Фрид считает, что буквализм и театральность идут рука об руку и что они плохи. У вещи нет глубины, и, значит, она не вызывает у нас удивления.
Это театральность. Фрид считает, что буквализм и театральность идут рука об руку и что они плохи. У вещи нет глубины, и, значит, она не вызывает у нас удивления.
Мне кажется, мы должны развести буквализм и театральность и оценивать их по отдельности или даже как противоположности. Спекулятивный реализм и объектно ориентированная онтология говорят о мире без людей, и многие понимают это буквально. Они думают, что наша идея — избавиться от людей или даже уничтожить себя как вид. В случае Рэя Брассьера философия определяется как орган человеческого исчезновения. Я посетил одну умную конференцию по искусству во Франции четыре года назад, и кто-то спросил меня, каким же будет искусство без людей. На несколько минут меня озадачил этот вопрос, но затем я понял, что это просто очень плохая, даже ужасная идея… Это не то, что я имел в виду под деантропоцентризацией искусства. Да, произведения искусства обладают глубиной за пределами человеческой интерпретации, потому что, оказавшись перед произведением искусства, вы не сможете его исчерпывающе описать. Это значит, что произведение искусства не буквально. Произведению искусства принадлежит реальность вне человеческого зрителя. Да-да. Но это не значит, что возможно искусство без человеческого компонента. Не может быть искусства без людей, как и общества без людей (оставим в стороне вопрос о разумных животных вроде дельфинов и обезьян, которые имеют что-то вроде искусства). Если бы все люди погибли во время ядерной войны, не думаю, что осталось бы какое-то искусство. Тристан Гарсиа, молодой французский философ, напротив, считает, что искусство все равно остается искусством даже без зрителя. Я с этим не согласен. По-моему, человеческий компонент так же необходим, как материальные составляющие, такие, как холст, скульптура и т.д. Требуются две сущности: вы и произведение искусства.
Это значит, что произведение искусства не буквально. Произведению искусства принадлежит реальность вне человеческого зрителя. Да-да. Но это не значит, что возможно искусство без человеческого компонента. Не может быть искусства без людей, как и общества без людей (оставим в стороне вопрос о разумных животных вроде дельфинов и обезьян, которые имеют что-то вроде искусства). Если бы все люди погибли во время ядерной войны, не думаю, что осталось бы какое-то искусство. Тристан Гарсиа, молодой французский философ, напротив, считает, что искусство все равно остается искусством даже без зрителя. Я с этим не согласен. По-моему, человеческий компонент так же необходим, как материальные составляющие, такие, как холст, скульптура и т.д. Требуются две сущности: вы и произведение искусства.
Так что я соглашусь с фридовской критикой буквализма в искусстве. Произведение искусства должно обладать определенной глубиной за пределами его буквального значения — или это просто не искусство.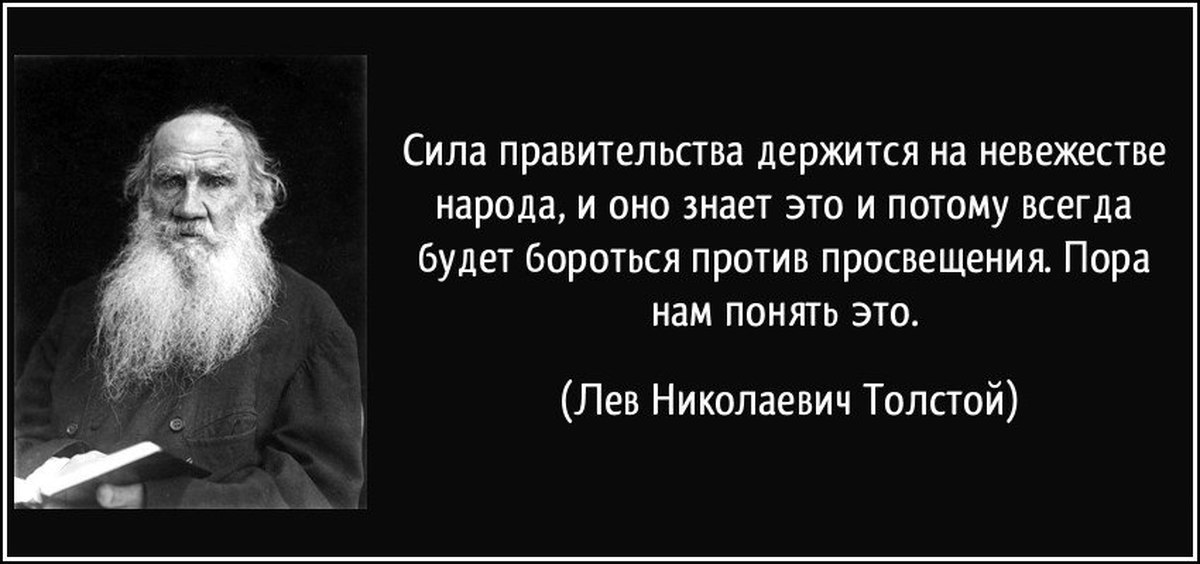 Но тот факт, что зритель, как в театре, вовлечен в произведение искусства, не делает искусство автоматически плохим. Это навело меня на мысль, что искусство сущностно театрально, и это как раз и привело меня к Станиславскому. Осмелюсь предположить, что маска была первым произведением искусства в человеческой истории. У этого предположения нет археологических доказательств, потому что маски изготовлялись из волокна и кожи, недолговечных материалов. Таким образом, археологи не смогли найти очень уж древние маски, несмотря на то что они нашли древнейшие росписи в пещерах и ювелирные украшения. Я думаю, мы все можем ощутить их первобытную привлекательность и внушаемый ими страх.
Но тот факт, что зритель, как в театре, вовлечен в произведение искусства, не делает искусство автоматически плохим. Это навело меня на мысль, что искусство сущностно театрально, и это как раз и привело меня к Станиславскому. Осмелюсь предположить, что маска была первым произведением искусства в человеческой истории. У этого предположения нет археологических доказательств, потому что маски изготовлялись из волокна и кожи, недолговечных материалов. Таким образом, археологи не смогли найти очень уж древние маски, несмотря на то что они нашли древнейшие росписи в пещерах и ювелирные украшения. Я думаю, мы все можем ощутить их первобытную привлекательность и внушаемый ими страх.
И это можно распространить даже на царство животных. Однажды, где-то 20 лет назад, меня пригласили в Чикаго на вечеринку по случаю Хэллоуина. Я долго не мог купить костюм, и к тому моменту, как я добрался до магазина, там ничего не осталось, кроме одной шедевральной вещи. Это была устрашающая маска зебры из Танзании с дымчатыми заплатами вокруг глаз. Животное, восставшее из мертвых. Я надел черный свитер и черные штаны и нанес на них белый скотч, чтобы сделать полосы, затем я повесил на шею коровьи колокольчики, чтобы усилить тревожный эффект, и я выиграл первый приз на этой вечеринке. Чуть позже мы обнаружили, что одна из собак моих родителей была напугана маской зебры, и нам пришлось спрятать ее в кабинете. Но как-то раз мой брат со своей девушкой навестили меня и захотели увидеть маску. Я надел ее, а их собака, которая любила меня так же, как брата, начала вести себя так, как если бы увидела демона, — громко и испуганно лаять. Вторая собака примчалась из комнаты, подпрыгнула и сорвала маску. Собаки, которые так хорошо знали меня и помнили мой запах, были тем не менее уверены, что я превратился в монстра. В людях этот первобытный страх и восхищение масками еще сильнее. Единственным шоу, которое заставило меня разрыдаться из-за своей красоты, была выставка в Канаде, посвященная индейским маскам с северо-запада Тихоокеанского побережья Америки, маскам племени квакиутл: вороны, осьминоги и т.
Животное, восставшее из мертвых. Я надел черный свитер и черные штаны и нанес на них белый скотч, чтобы сделать полосы, затем я повесил на шею коровьи колокольчики, чтобы усилить тревожный эффект, и я выиграл первый приз на этой вечеринке. Чуть позже мы обнаружили, что одна из собак моих родителей была напугана маской зебры, и нам пришлось спрятать ее в кабинете. Но как-то раз мой брат со своей девушкой навестили меня и захотели увидеть маску. Я надел ее, а их собака, которая любила меня так же, как брата, начала вести себя так, как если бы увидела демона, — громко и испуганно лаять. Вторая собака примчалась из комнаты, подпрыгнула и сорвала маску. Собаки, которые так хорошо знали меня и помнили мой запах, были тем не менее уверены, что я превратился в монстра. В людях этот первобытный страх и восхищение масками еще сильнее. Единственным шоу, которое заставило меня разрыдаться из-за своей красоты, была выставка в Канаде, посвященная индейским маскам с северо-запада Тихоокеанского побережья Америки, маскам племени квакиутл: вороны, осьминоги и т. д. В нас осталось что-то, что заставляет содрогаться при виде маски. Надеть маску или увидеть ее — все равно что попасть в театральное пространство, где ты вовлечен в искусство, а не просто воспринимаешь его.
д. В нас осталось что-то, что заставляет содрогаться при виде маски. Надеть маску или увидеть ее — все равно что попасть в театральное пространство, где ты вовлечен в искусство, а не просто воспринимаешь его.
Такая точка зрения противоречива, так как не соответствует тому, что говорит нам Кант в своей «Критике способности суждения». Он считает, что искусство — о незаинтересованности. Это вопрос сознания, отделенного от объекта, где эстетика действует на стороне сознания, а не на стороне объекта, чтобы гарантировать универсальность вкуса. Вся работа происходит здесь, в области человеческого понимания, как и в кантовской этике. В его эстетике и прекрасное, и возвышенное — всего лишь вопрос нашего сознания, а не внешнего мира, и только по этой причине они универсальны. Забавно, что Гринберг и Фрид переворачивают эту формулу, предлагая сделать ее проблемой объекта, откуда исключается все человеческое. Но я не думаю, что кантианская формула незаинтересованности работает.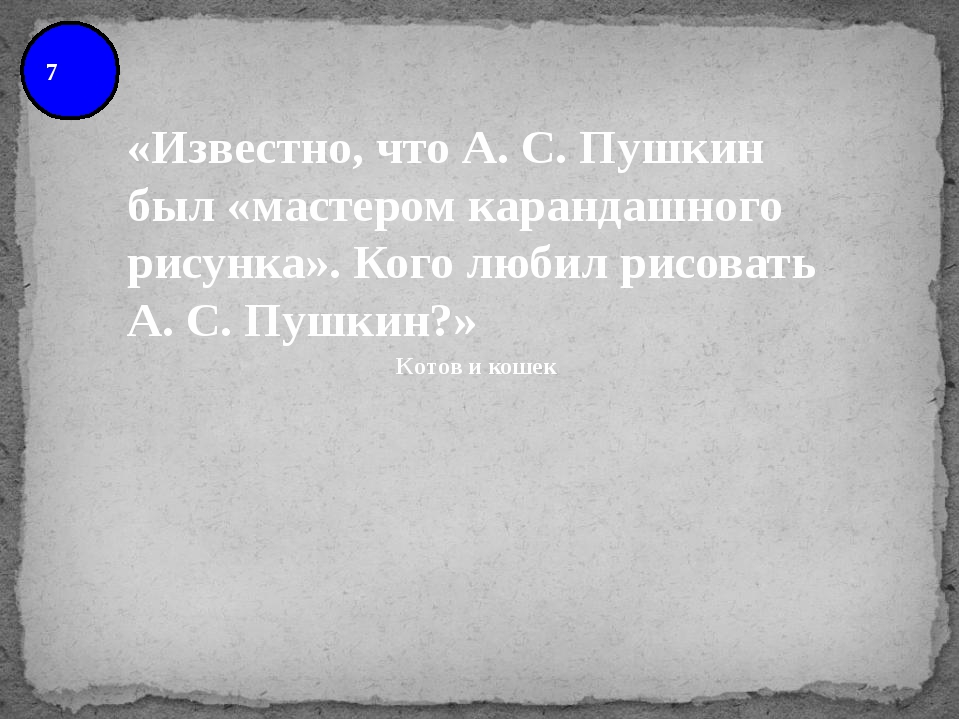 Человек сплетен с миром, но это не значит, что человек как зритель с ним связан. Когда человеческое сознание выходит на сцену, оно не контаминирует вещи, делая их буквальными и поверхностными, как думает Фрид. Если искусство по своей сути театрально, из этого, конечно, следует, что вкус не может быть универсальным, потому что если я — компонент в произведении искусства, это я как индивид, а не просто какой-то человек. Да, большинство людей согласятся, что Шекспир и Моцарт — одни из величайших, и, возможно, «консенсус вкуса» убедителен, как утверждают Гринберг и Фрид. Но, вероятно, наиболее интересны те случаи, где вдохновляют относительно маловажные фигуры. Первый пример, приходящий мне на ум, — это Томас Стернз Элиот, знаменитый англоязычный поэт XX века. Одним из его главных вдохновителей был Жюль Лафорг, который, возможно, и обладает талантом, но определенно не принадлежит к эстетической лиге Бодлера и Рембо. Я думаю, вы можете найти что-то подобное в карьере любого интеллектуала. Когда я интервьюировал Мейясу, я не забыл спросить его, какой относительно незначительный философ повлиял на него в особенности; он упомянул Ги Дебора и других.
Человек сплетен с миром, но это не значит, что человек как зритель с ним связан. Когда человеческое сознание выходит на сцену, оно не контаминирует вещи, делая их буквальными и поверхностными, как думает Фрид. Если искусство по своей сути театрально, из этого, конечно, следует, что вкус не может быть универсальным, потому что если я — компонент в произведении искусства, это я как индивид, а не просто какой-то человек. Да, большинство людей согласятся, что Шекспир и Моцарт — одни из величайших, и, возможно, «консенсус вкуса» убедителен, как утверждают Гринберг и Фрид. Но, вероятно, наиболее интересны те случаи, где вдохновляют относительно маловажные фигуры. Первый пример, приходящий мне на ум, — это Томас Стернз Элиот, знаменитый англоязычный поэт XX века. Одним из его главных вдохновителей был Жюль Лафорг, который, возможно, и обладает талантом, но определенно не принадлежит к эстетической лиге Бодлера и Рембо. Я думаю, вы можете найти что-то подобное в карьере любого интеллектуала. Когда я интервьюировал Мейясу, я не забыл спросить его, какой относительно незначительный философ повлиял на него в особенности; он упомянул Ги Дебора и других. Для меня это была пара испанских философов — Хосе Ортега-и-Гассет и Хавьер Субири, и никто сегодня на самом деле не читает их ни в Америке, ни в Европе.
Для меня это была пара испанских философов — Хосе Ортега-и-Гассет и Хавьер Субири, и никто сегодня на самом деле не читает их ни в Америке, ни в Европе.
В чем Кант прав, так это в том, что у нас не может быть критериев.
Шенталь: А у нас вот в вузах все еще читают «Дегуманизацию искусства».
Харман: Это хорошая вещь, но я особенно люблю эссе Ортеги о метафоре, которое не так широко известно.
Шенталь: Вы говорите, что искусство после 1960-х утратило свою способность различать социальные шутки и эстетическую глубину. Каковы же критерии, пользуясь вашим выражением, «эстетического совершенства»?
Харман: В чем Кант прав, так это в том, что у нас не может быть критериев. Вы можете предположить, какие техники создадут хорошее или плохое искусство, но вы никогда не сможете дать прозаическое описание, почему что-либо прекрасно. Одно из верных критических замечаний Гринберга о Дюшане (хотя я и считаю, что он слишком жесток по отношению к Дюшану в целом) — что шок, который провоцирует Дюшан, всего лишь социальный шок, а не эстетический. Давайте поместим писсуар в галерею: буржуазия никогда не примет этого! Мы и сегодня видим много подобного. К примеру, Дэмиен Херст с его акулой в аквариуме, наполненном формальдегидом, или же с разлагающимся мясом, привлекающим мух, которых затем он убивает током. Это, наверное, забавные приколы, но есть ли в них глубина? Он всего лишь разыгрывает буквальную идею. Он буквально помещает кусок мяса рядом с электрическим прибором, который буквально убивает прилетевших поесть мух. Если бы вы были студентом художественной школы и ваш дерзкий товарищ отправил бы вам такую записку, вы бы хорошо повеселились. Но зачем же реализовывать такую идею?
Одно из верных критических замечаний Гринберга о Дюшане (хотя я и считаю, что он слишком жесток по отношению к Дюшану в целом) — что шок, который провоцирует Дюшан, всего лишь социальный шок, а не эстетический. Давайте поместим писсуар в галерею: буржуазия никогда не примет этого! Мы и сегодня видим много подобного. К примеру, Дэмиен Херст с его акулой в аквариуме, наполненном формальдегидом, или же с разлагающимся мясом, привлекающим мух, которых затем он убивает током. Это, наверное, забавные приколы, но есть ли в них глубина? Он всего лишь разыгрывает буквальную идею. Он буквально помещает кусок мяса рядом с электрическим прибором, который буквально убивает прилетевших поесть мух. Если бы вы были студентом художественной школы и ваш дерзкий товарищ отправил бы вам такую записку, вы бы хорошо повеселились. Но зачем же реализовывать такую идею?
Но все же один из критериев успешного произведения можно назвать. Вы должны возвращаться к нему много раз и находить что-то новое. Книга о Пикассо, написанная его бывшей женой Франсуазой Жило, полна анекдотов, и не только скандальных историй, потому что она сама — художник, проницательный ценитель искусства и внимательный документатор высказываний Пикассо об искусстве. Если я не ошибаюсь, однажды они пошли в галерею, и Пикассо сказал, что очень долго изучал работу Фернана Леже, возможно, час или два. Позднее он добавил, что проблема с Леже состоит в том, что его работа выглядит хорошо, но после часа или двух часов просмотра вы понимаете, что больше в ней ничего нет, кроме того, что вы увидели вначале. Согласны мы с Пикассо или нет, но это интересный критерий. Однако вернемся к литературе: как много романов вы действительно перечитываете? Мы стараемся читать те, которые можно назвать великими. Мы всегда можем выбрать бестселлер — роман или триллер — и насладиться, читая его, но мы, скорее всего, никогда его не откроем снова.
Книга о Пикассо, написанная его бывшей женой Франсуазой Жило, полна анекдотов, и не только скандальных историй, потому что она сама — художник, проницательный ценитель искусства и внимательный документатор высказываний Пикассо об искусстве. Если я не ошибаюсь, однажды они пошли в галерею, и Пикассо сказал, что очень долго изучал работу Фернана Леже, возможно, час или два. Позднее он добавил, что проблема с Леже состоит в том, что его работа выглядит хорошо, но после часа или двух часов просмотра вы понимаете, что больше в ней ничего нет, кроме того, что вы увидели вначале. Согласны мы с Пикассо или нет, но это интересный критерий. Однако вернемся к литературе: как много романов вы действительно перечитываете? Мы стараемся читать те, которые можно назвать великими. Мы всегда можем выбрать бестселлер — роман или триллер — и насладиться, читая его, но мы, скорее всего, никогда его не откроем снова.
До этого Анастасия упомянула «Войну и мир», и хотя я на самом деле не перечитывал ее с 1989 года, когда впервые прочитал, то это только потому, что сложно найти время, чтобы перечитать что-то столь длинное. Я могу сказать без тени иронии, что я горю желанием найти время перечитать «Войну и мир». Достоевский и другие русские романисты могут выдержать множество повторных прочтений. Особенно мне нравится Гоголь. Есть старая шутка о мильтоновском «Потерянном рае», принадлежащая доктору Джонсону, насколько я помню. Так вот, он сказал, что «никто никогда не хотел, чтобы он был длиннее». Но я бы хотел, чтобы «Мертвые души», это великое неоконченное произведение, были длиннее. И Данте! Его я перечитывал много раз, в октябре как раз выйдет моя книга о нем.
Я могу сказать без тени иронии, что я горю желанием найти время перечитать «Войну и мир». Достоевский и другие русские романисты могут выдержать множество повторных прочтений. Особенно мне нравится Гоголь. Есть старая шутка о мильтоновском «Потерянном рае», принадлежащая доктору Джонсону, насколько я помню. Так вот, он сказал, что «никто никогда не хотел, чтобы он был длиннее». Но я бы хотел, чтобы «Мертвые души», это великое неоконченное произведение, были длиннее. И Данте! Его я перечитывал много раз, в октябре как раз выйдет моя книга о нем.
Понравился материал? Помоги сайту!
Подписывайтесь на наши обновления
Еженедельная рассылка COLTA.RU о самом интересном за 7 дней
Лента наших текущих обновлений в Яндекс.Дзен
RSS-поток новостей COLTA.RU
При поддержке Немецкого культурного центра им. Гете, Фонда имени Генриха Бёлля, фонда Михаила Прохорова и других партнеров.
Звездные небеса и нравственный закон
В том, что может быть самым известным его отрывком, первое предложение которого даже было начертано на его надгробии, Иммануил Кант завершил свою Критику практического разума (1788) следующим образом: Две вещи наполняют разум со все возрастающим восхищением и трепетом мы все чаще и настойчивее размышляем о них: о звездных небесах надо мной и нравственном законе во мне. Я не ищу и не предполагаю ни одного из них, как если бы они были завуалированными неясностями или экстравагантностями за пределами моего видения; Я вижу их перед собой и немедленно связываю их с сознанием моего существования.Первый начинается с того места, которое я занимаю во внешнем мире чувств, и расширяет связь, в которой я нахожусь, в безграничную величину миров за мирами, систем за системами, а также в безграничные времена их периодического движения. их начало и продолжение. Второй начинается с моего невидимого «я», моей личности и показывает мне мир, имеющий истинную бесконечность, но который может быть обнаружен только через понимание, и с которым .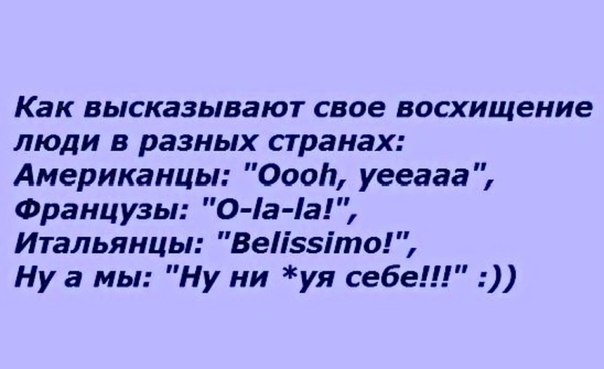 .. я знаю, что я не в нем, как в первом случае, Просто случайная, но универсальная и необходимая связь.Первая перспектива бесчисленного множества миров как бы сводит на нет мою значимость как животного существа, которое должно отдать материю, из которой оно выросло, обратно на планету (просто пятнышко в космосе) после того, как оно было (кто-то знает не как) снабдили жизненной силой на короткое время. Второй, напротив, бесконечно повышает мою ценность как интеллекта через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животного мира и даже от всего мира чувств, по крайней мере, насколько это возможно. судя по целенаправленному определению моего существования посредством этого закона, который не ограничивается условиями и границами этой жизни, но проникает в бесконечность.(Практический разум, 5: 161–2) и политическая философия. В нем также подробно освещается исторический контекст Канта и то огромное влияние, которое его работа оказала на последующую историю философии.
.. я знаю, что я не в нем, как в первом случае, Просто случайная, но универсальная и необходимая связь.Первая перспектива бесчисленного множества миров как бы сводит на нет мою значимость как животного существа, которое должно отдать материю, из которой оно выросло, обратно на планету (просто пятнышко в космосе) после того, как оно было (кто-то знает не как) снабдили жизненной силой на короткое время. Второй, напротив, бесконечно повышает мою ценность как интеллекта через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животного мира и даже от всего мира чувств, по крайней мере, насколько это возможно. судя по целенаправленному определению моего существования посредством этого закона, который не ограничивается условиями и границами этой жизни, но проникает в бесконечность.(Практический разум, 5: 161–2) и политическая философия. В нем также подробно освещается исторический контекст Канта и то огромное влияние, которое его работа оказала на последующую историю философии. Библиография также предлагает обширный и организованный обзор как классических, так и недавних книг о Канте. Таким образом, этот том представляет собой самое широкое и глубокое введение, доступное в настоящее время, о Канте и его месте в современной философии, делая доступным философское предприятие Канта для тех, кто впервые приходит к его работе.
Библиография также предлагает обширный и организованный обзор как классических, так и недавних книг о Канте. Таким образом, этот том представляет собой самое широкое и глубокое введение, доступное в настоящее время, о Канте и его месте в современной философии, делая доступным философское предприятие Канта для тех, кто впервые приходит к его работе.
Две вещи наполняют разум благоговением
«Две вещи наполняют ум все новыми и возрастающими восхищением и трепетом, чем чаще и устойчивее мы размышляем о них: звездные небеса наверху и моральный закон внутри . Мне не нужно искать их и гадать, как если бы они были покрыты тьмой или находились в трансцендентной области за моим горизонтом; Я вижу их перед собой и напрямую связываю их с сознанием моего существования.Первый начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственном мире, и расширяет мою связь в нем до неограниченной степени с мирами за мирами и системами систем, и, более того, в безграничные времена их периодического движения, его начала и продолжения.
Второй начинается с моей невидимой сущности, моей личности, и показывает меня в мире, который имеет истинную бесконечность, но который можно проследить только с помощью понимания, и с помощью которого я различаю, что я нахожусь не просто в контингенте, а в универсальном и вселенском. необходимая связь, как и я, со всеми этими видимыми мирами.Прежний взгляд на бесчисленное множество миров сводит на нет мою важность как животного существа , которое после того, как на короткое время было наделено жизненной силой, неизвестно как, должно снова вернуть материю, о которой оно был сформирован на планете, на которой он обитает (всего лишь частичка во Вселенной). Второе, напротив, бесконечно повышает мою ценность как интеллекта и моей личности, в котором моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животного мира и даже от всего чувственного мира, по крайней мере, насколько это можно заключить из пункт назначения, назначенный моему существованию этим законом, пункт назначения, не ограниченный условиями и пределами этой жизни, но уходящий в бесконечность. ”
”
__________
Первые абзацы заключения к «Критике чистого разума » Иммануила Канта .
В своем подкасте Philosophy Bites Дэвид Эдмондс и Найджел Уорбертон задали впечатляющему кругу ученых и философов вопрос: «Кто ваш любимый философ?». Стоит услышать все краткие ответы, хотя один из моих любимых поступает от Сьюзан Ниман, протеже Джона Ролза и лектора на Форуме Эйнштейна, которая пишет:
Если бы я мог выбрать только одного, я бы выбрал Канта — и я бы выбрал его, потому что я думаю, что он на самом деле самый храбрый из всех философов.
Самым важным выводом Канта было то, что существует огромный разрыв между тем, как мир — это , и тем, каким должен быть мир , , и оба из них имеют равную ценность. Обоих нужно постоянно помнить.
Это чрезвычайно трудная позиция. Это очень современно. Это означает определенное количество жизни на грани. Это означает определенное постоянное разочарование.
Люди склонны идти в том или ином направлении. Либо они говорят: «Ну, таков мир, все, что есть, и любой идеал — это просто иллюзия, из которой нужно вырасти».Или они создают какую-то иллюзию — отсюда сталинизм и другие идеологии — мир должен быть таким, каким он есть.
Жить с обоими чрезвычайно тяжело, и это означает, что вы знаете, что никогда полностью не реализуете идеалы, в которые верите, но я думаю, что это единственный способ быть одновременно честным и обнадеживающим.
Прошу прощения за продленный перерыв. Ваше регулярное программирование возобновляется.
Нравится:
Нравится Загрузка…
Наука, цивилизация и общество
Наука, цивилизация и обществоИммануил Кант
Немецкий философ, р. 22 апреля 1724 г. (Кенигсберг, Пруссия [ныне Калининград, Россия]), д. 12 февраля 1804 г. (Веймар, Германия).
Родители Канта были набожными членами пиетистской лютеранской церкви, которая пропагандировала простую жизнь и соблюдение внутреннего морального закона. Его отец был шорником; его мать умная женщина без формального образования.Когда Иммануилу было восемь лет, он поступил в латинскую школу при церкви. В 1740 году он поступил в Кенигсбергский университет для изучения богословия.
Но Канта больше интересовала наука. Он прочитал труды Исаака Ньютона и в 1744 г. начал писать свою первую книгу по проблемам физики. Однако в 1746 году его отец умер, и Канту пришлось оставить университет и зарабатывать на жизнь частным репетитором. Богатые семьи, в которых он работал, познакомили его с высшим обществом Кенигсберга, и однажды он сопровождал своих работодателей в поездке в Арнсдорф.Это была самая большая поездка в его жизни, расстояние в 96 км, после которой он больше никогда не покидал родной город.
В 1755 году Кант получил степень и получил работу Privatdozent (преподаватель) в университете. Он читал лекции по математике и физике, но в своих исследованиях его интересовало сравнение методов науки, в частности метода исследования Ньютона, с методами мышления, применяемыми в философии.
После двух неудачных попыток получить профессорскую должность, отклонения предложений других университетов и 15 лет работы в качестве приват-доцента Кант был наконец назначен профессором логики и метафизики в 1770 году.В своей вступительной диссертации он изложил свой проект: исследовать философскую территорию с помощью научных методов. На это у него ушло более десяти лет, за это время он ничего не опубликовал; но он был уверен в успехе своих поисков. В письме другу он написал о своей диссертации:
.- «Примерно год с тех пор, как я достиг той концепции, которую я не боюсь когда-либо быть вынужденной изменить, хотя мне, возможно, придется ее расширить, и с помощью которой можно проверить всевозможные метафизические вопросы в соответствии с совершенно безопасными и простыми критериями. , и было принято верное решение относительно того, растворимы они или нерастворимы.»
В 1781 году Кант опубликовал первую из трех книг под названием «Критика». За Kritik der reinen Vernunft («Критика чистого разума», посвященной Фрэнсису Бэкону) в 1780 г. последовали Kritik der praktischen Vernunft («Критика практического разума») и в 1790 г. после Kritik der Urteilskraft ( «Критика суждения»). Вместо того, чтобы подвергать критике существующие философские учения, «критика» в смысле Канта означала критическое развитие системы мышления с нуля.Чтобы достичь этого, он предложил следовать «верным научным путем», который начинается с нескольких законов природы, которые не могут быть доказаны или опровергнуты, и продолжается до обнаружения последствий. По его словам, как физика принимает пространство и время как данность, так и метафизика должна исходить из определенных принципов и извлекать из них все остальные знания.
В отличие от ясных слов, которыми Кант выразил план своего предприятия, его книги очень трудны для понимания и не читаются широко, за исключением философских исследований.Но подъем науки в Европе бросил серьезный вызов философии и теологии, и Кант был наиболее успешным из всех философов, которые ответили на этот вызов. Хотя его мысли не были приняты без изменений со стороны следующего поколения философов, он по праву считается третьим отцом европейской философии после Платона и Аристотеля.
Номер ссылки
Берд, О. А. (1995) Иммануил Кант. Британская энциклопедия 15-е изд.
Портрет: цветная гравюра Я.Чепмен, Коллекция портретов библиотеки Дибнера, Смитсоновский институт, США; всеобщее достояние.
Надгробие Канта
Надгробие Канта было повреждено во время Второй мировой войны и восстановлено. Цитата из произведений Канта, используемая в качестве надписи (на немецком и русском языках), гласит: «Две вещи наполняют разум всегда новым и все возрастающим восхищением и трепетом, чем чаще и интенсивнее этим занимается мышление — звездное небо над головой. я и моральный закон внутри меня.«
Иллюстрация: общественное достояние (Википедия)
Иллюстрация: общественное достояние
дом
Кант, Иммануил (1724–1804) — Философская энциклопедия Рутледжа
DOI: 10.4324 / 9780415249126-DB047-1
Версия: v1, опубликовано в Интернете: 1998
Получено 24 февраля 2021 г., с https://www.rep.routledge.com/articles/biographic/kant-immanuel-1724-1804/ v-1
Иммануил Кант был парадигматическим философом европейского Просвещения.Он стер последние следы средневекового мировоззрения из современной философии, соединил ключевые идеи более раннего рационализма и эмпиризма в мощную модель субъективных истоков фундаментальных принципов как науки, так и морали, и заложил основу для многого в философии девятнадцатый и двадцатый века. Прежде всего, Кант был философом человеческой автономии, представлением о том, что, используя наш собственный разум в самом широком смысле, люди могут открывать и жить в соответствии с основными принципами знания и действия без посторонней помощи, прежде всего без божественной поддержки или вмешательство.
Кант заложил основы своей теории познания в своей монументальной «Критике чистого разума» (1781). Он описал фундаментальный принцип морали в «Основах метафизики морали» (1785 г.) и «Критике практического разума» (1788 г.), в заключении которых он написал знаменитую фразу:
Две вещи наполняют разум все новым и растущим восхищением. и трепет, тем чаще и упорнее они занимаются размышлениями: звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. Ни того, ни другого мне не нужно искать и просто подозревать, словно окутанный тьмой или восторгом за пределами моего собственного горизонта; Я вижу их перед собой и сразу же связываю их со своим существованием.
(5: 161–2; метод цитирования см. В Список работ )
Кант пытался показать, что и законы природы, и законы морали основаны на самом человеческом разуме. Однако с помощью этих двух форм права часто думают, что он определил две несоизмеримые области, природу и свободу, область того, что есть, и область того, что должно быть, первая из которых должна быть ограничена, чтобы оставить достаточно места для последний.Кант определенно уделил много места и усилий различению природы и свободы. Но, как он также говорит в «Критике суждения» (1790 г.), не менее важно «перебросить мост от одной территории к другой». В конце концов, Кант считал, что и законы природы, и законы свободного человеческого поведения должны быть совместимы, потому что они оба являются продуктами человеческого мышления, навязанного нами данным нашего опыта посредством использования наших собственных сил. Об этом ясно сказано в его последней книге «Конфликт факультетов» (1798):
Философия — это не какая-то наука представлений, концепций и идей, или наука всех наук, или что-то еще в этом роде; скорее, это наука о человеческом существе, его представлении, мышлении и действии — она должна представлять человека во всех его компонентах, как оно есть и должно быть, то есть в соответствии с его естественными определениями как а также его отношения морали и свободы.Античная философия заняла совершенно неподходящую точку зрения на человека в мире, поскольку превратила его в машину, которая как таковая должна была полностью зависеть от мира или от внешних вещей и обстоятельств; таким образом, это сделало человека почти пассивной частью мира. Теперь появилась критика разума и определила человека на активных место в мире. Сам человек является изначальным творцом всех своих представлений и концепций и должен быть единственным автором всех своих действий.
(7: 69–70)
Таким образом, Кант вывел фундаментальные принципы человеческого мышления и действия из человеческой чувствительности, понимания и разума, как источников нашей автономии; он уравновешивал вклад этих принципов с неисчерпаемыми входами внешних ощущений и внутренних наклонностей, неподвластных нашему контролю; и он стремился как отделить эти принципы друг от друга, так и интегрировать их в единую систему, в которой человеческая автономия является одновременно ее основой и конечной ценностью и целью.Это были задачи трех великих критических замечаний Канта. В «Критике чистого разума» основные формы пространства, времени и концептуального мышления возникают в природе человеческой чувствительности и понимания и обосновывают необходимые принципы человеческого опыта. Затем он утверждал, что разум в узком смысле, проявляемом в логических выводах, играет ключевую роль в систематизации человеческого опыта, но ошибочно думать, что разум предлагает метафизическое понимание существования и природы человеческой души, независимого мира. , И Бог.Однако в «Критике практического разума и оснований» он утверждал, что разум как источник идеала систематичности является источником фундаментального закона морали и нашего осознания собственной свободы, которая является источником всех ценностей, и что мы можем постулировать истинность основных догматов христианства, наше собственное бессмертие и существование Бога как практические предпосылки нашего нравственного поведения, но не как теоретические истины метафизики. В «Критике суждения» Кант утверждал, что единство вкусов и систематическая организация как отдельных организмов, так и природы в целом могут быть постулированы, опять же не как метафизические догмы, а скорее как регулирующие идеалы наших эстетических и научных поисков; Затем он продолжил утверждать, что именно с помощью этих идеалов мы можем связать воедино царства природы и свободы, потому что эстетический опыт предлагает нам осязаемый образ нашей моральной свободы и научную концепцию мира как системы взаимосвязанных существ. имеет смысл только как образ мира как сферу наших собственных нравственных усилий.Во многих из своих последних произведений, от «Религия в пределах только разума» (1793 г.) до своих последних рукописей «Opus postumum», Кант уточнил и радикализировал свое мнение о том, что наши религиозные концепции могут быть поняты только как аналогии с самой природой человеческого разума. .
Просвещение началось с попытки поставить даже Бога на скамейку человеческого разума — на рубеже восемнадцатого века и Шефтсбери в Великобритании, и Вольф в Германии отвергли волюнтаризм, теорию о том, что Бог устанавливает вечные истины и моральные законы на основании указов. , и вместо этого утверждал, что мы сами должны знать, что правильно, а что неправильно, прежде чем мы сможем даже признать предположительно божественные команды как божественные.Кант завершил свою аргументацию, заключив, что человек «сам a priori создает элементы познания мира, из которых он, как в то же время обитатель мира, конструирует мировоззрение в идее». (Opus postumum, 21:31).
Цитирует эту статью:
Guyer, Paul. Кант, Иммануил (1724–1804), 1998, DOI: 10.4324 / 9780415249126-DB047-1. Энциклопедия философии Рутледжа, Тейлор и Фрэнсис, https://www.rep.routledge.com/articles/biographic/kant-immanuel-1724-1804/v-1.
Авторские права © 1998-2021 Routledge.
Критика практического разума {Philosophy Index}
Иммануил Кант
Заключение
Две вещи наполняют разум все новым и возрастающим восхищением и трепетом, чем чаще и устойчивее мы размышляем о них: звездные небеса выше и моральный закон внутри. Мне не нужно искать их и гадать, как если бы они были покрыты тьмой или находились в трансцендентной области за моим горизонтом; Я вижу их перед собой и напрямую связываю их с сознанием моего существования.Первый начинается с того места, которое я занимаю во внешнем чувственном мире, и расширяет мою связь в нем до неограниченной степени с мирами за мирами и системами систем, и, более того, в безграничные времена их периодического движения, его начала и продолжения. Второй начинается с моего невидимого «я», моей личности, и показывает меня в мире, который имеет истинную бесконечность, но который прослеживается только рассудком, и с помощью которого я различаю, что я нахожусь не просто в случайности, а в универсальном и необходимом связь, как и я, со всеми этими видимыми мирами.Прежний взгляд на бесчисленное множество миров сводит на нет мою важность как животного существа, которое после того, как на короткое время было наделено жизненной силой, неизвестно как, должно снова вернуть материю, из которой оно было образовано. планете, на которой он обитает (всего лишь частичка во Вселенной). Второй, напротив, бесконечно возвышает мою ценность как интеллекта моей личностью, в котором моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животного мира и даже от всего чувственного мира, по крайней мере в той мере, в какой это может быть выведено из места назначения. назначенное для моего существования этим законом место назначения, не ограниченное условиями и пределами этой жизни, но достигающее бесконечности.
Но хотя восхищение и уважение могут возбуждать вопросы, они не могут восполнить их недостаток. Что же тогда нужно сделать, чтобы приступить к этому полезным образом и адаптироваться к высоте предмета? Примеры могут служить здесь предупреждением, а также для подражания. Созерцание мира началось с благороднейшего зрелища, которое человеческие чувства преподносят нам, и которое наше понимание может выдержать, чтобы следовать в их обширной досягаемости; и кончилось — астрологией. Нравственность началась с благороднейшего свойства человеческой натуры, развитие и культивирование которого дает перспективу бесконечной полезности; и закончилось — фанатизмом или суеверием.Так обстоит дело со всеми грубыми попытками, когда основная часть бизнеса зависит от использования разума, использования, которое не приходит само по себе, как, например, использование ног, частыми упражнениями, особенно когда речь идет об атрибутах, которые нельзя прямо выставляется в общем опыте. Но после того, как максима вошла в моду, хотя и с опозданием, тщательно изучить заранее все шаги, которые разум намеревается предпринять, и не допускать, чтобы она продолжалась иначе, чем в русле ранее хорошо продуманного метода, тогда изучение структуры Вселенная пошла в совершенно ином направлении и благодаря этому достигла несравненно более счастливого результата.Падение камня, движение пращи, разделенных на их элементы и силы, которые проявляются в них и которые рассматриваются математически, наконец, произвело то ясное и отныне неизменное понимание системы мира, которое по мере продолжения наблюдения , может всегда надеяться на расширение, но никогда не должен бояться, что его заставят отступить.
Этот пример может побудить нас пойти по тому же пути в отношении моральных способностей нашей природы и может дать нам надежду на такой же хороший результат.У нас есть примеры морального суждения разума. Анализируя их до элементарных концепций и, если математика не применяет процесс, аналогичный процессу химии, отделение эмпирических элементов от рациональных, которые могут быть обнаружены в них, путем повторных экспериментов со здравым смыслом, мы можем продемонстрировать как чистые и узнать с уверенностью, что каждая часть может сделать сама по себе, чтобы предотвратить, с одной стороны, ошибки еще грубого необученного суждения, а с другой стороны (что гораздо более необходимо) экстравагантность гения, с помощью которой как адепты философского камня без какого-либо методического изучения или знания природы обещают сокровища мечтаний, а истину выбрасывают.Одним словом, наука (критически проводимая и методически направляемая) — это узкие врата, ведущие к истинной доктрине практической мудрости, если мы понимаем под этим не только то, что нужно делать, но и то, что должно служить учителям в качестве руководства для построения хорошо и ясно — путь к мудрости, по которому должен идти каждый, чтобы уберечь других от заблуждения. Философия всегда должна оставаться хранителем этой науки; и хотя общественность не проявляет никакого интереса к его тонким исследованиям, она должна проявлять интерес к результирующим доктринам, которые такое исследование сначала проливает на свет.
Конец
«Вторая часть
Критика практического разума Иммануила Канта. Перевод Томаса Кингсмилла Эбботта.
Иммануил Кант — Ученый дня
Иммануил Кант, немецкий философ, родился 22 апреля 1724 года. Почти каждая краткая биография Канта включает цитату из конца Критики практического разума (1788), где Кант говорит: «Две вещи наполняют разум. со все возрастающим восхищением и трепетом…: звездное небо надо мной и моральный закон внутри меня.Это действительно красивая фраза, и можно понять, почему биографы так увлечены ею. Однако такие биографии почти всегда сразу же переходят к обсуждению Канта как морального философа и упускают из виду первую часть изречения Канта о том, что небеса и их законы достойны нашего восхищения. Кант не просто восхищался небесами — он внес несколько заметных вкладов в астрономию и космологию, прежде чем спустился по скользкой дорожке в философию. В 1750-х годах Кант прочитал в немецком журнале рецензию на книгу Томаса Райта «Оригинальная теория или новая гипотеза Вселенной » (1750 г.).Рецензент сказал, что Райт утверждал, что Млечный Путь был ключом к разгадке распределения звезд в космосе, но рецензент не объяснил, каково это распределение (второе изображение выше, показывающее поперечное сечение Млечного Пути, принадлежит Райту. книга, но Кант ее так и не увидел). Кант прочитал это и сразу пришел к выводу, что если мы видим полосу звезд на небе, это должно быть потому, что наша звездная система имеет форму широкого тонкого диска с Солнцем в центре. Одним словом, Кант предположил не только существование нашей Галактики, но и ее правильную форму.Он объявил о своем заключении в Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels ( Универсальная естественная история и теория небес , 1755).
В этой книге Кант также предположил, что некоторые из линзовидных туманностей на небе, такие как туманность в Андромеде (третье изображение выше ), могут быть галактиками звезд, такими же, как наша Галактика Млечный Путь. Однако новаторские идеи Канта долгое время оставались незамеченными. Его издатель обанкротился, как только книга была напечатана; копии были конфискованы судами, и большинство из них исчезло.Даже более поздние тиражи очень редки. У нас есть в Собрании истории науки экземпляр второго издания (1798 г.), и мы очень рады ему (, четвертое изображение выше ). Мы представили его на нашей выставке 2010 года «Мышление вне сферы» .
Д-р Уильям Б. Эшворт младший, консультант по истории науки Библиотеки Линды Холл и доцент кафедры истории Университета Миссури в Канзас-Сити
Кант: практический разум
Кант: практический разум из: Критика практического разумаВЫВОД.
Две вещи наполняют разум все новым и возрастающим восхищением и трепет, чем чаще и устойчивее мы размышляем о них: звездные небеса наверху и моральный закон внутри. Мне не нужно искать для них и предполагать их, как если бы они были покрыты тьмой или были в трансцендентной области за пределами моего горизонта; Я видел их раньше меня и напрямую связывают их с сознанием моего существования.Первое начинается с того места, которое я занимаю во внешнем мире смысл, и расширяет мою связь в нем до неограниченной степени с мирами на миры и системами систем, и более того в безграничные времена их периодического движения, его начало и продолжение. Второй начинается с моей невидимой личности, моей личности, и показывает меня в мире истинной бесконечности, но прослеживаемый только разумом, и с которым я различаю, что я нахожусь не в случайном, а в универсальном и необходимом связь, как и я, со всеми этими видимыми мирами.В прежний взгляд на бесчисленное множество миров аннигилирует, поскольку было мое значение как животное существо, которое после на короткое время наделенный жизненной силой, не умеющий, должен снова вернуть материю, из которой она образовалась, планете, обитает (всего лишь частичка во вселенной).

 Кристиан Алверт, явный поклонник немецкой классической литературы (особенно философской линии Томаса Манна и Эриха М. Ремарка), написал очень волнительный сценарий фильма-метафоры.
Кристиан Алверт, явный поклонник немецкой классической литературы (особенно философской линии Томаса Манна и Эриха М. Ремарка), написал очень волнительный сценарий фильма-метафоры. В своем путешествии капрал встречает обворожительную женщину-генетика, бесстрашного индейца и множество, непонятно откуда взявшихся, зомби.
В своем путешествии капрал встречает обворожительную женщину-генетика, бесстрашного индейца и множество, непонятно откуда взявшихся, зомби. В «Пандоруме» режиссер более реалистичен, и использует пресловутый человеческий фактор как определяющий. Катастрофа не может не сказаться на психологическом состоянии человека, а потому возникает синдром пандорума – панического страха, убивающего человека изнутри и лишающего рассудка. И в качестве примера болезни режиссер выбирает фигуру лейтенанта. Внешне он очень спокоен и сдержан, как настоящий солдат, но внутри его растет зверь-паника. Схватка лейтенанта с самим собой показана очень смело и захватывающе.
В «Пандоруме» режиссер более реалистичен, и использует пресловутый человеческий фактор как определяющий. Катастрофа не может не сказаться на психологическом состоянии человека, а потому возникает синдром пандорума – панического страха, убивающего человека изнутри и лишающего рассудка. И в качестве примера болезни режиссер выбирает фигуру лейтенанта. Внешне он очень спокоен и сдержан, как настоящий солдат, но внутри его растет зверь-паника. Схватка лейтенанта с самим собой показана очень смело и захватывающе. Прогноз получился очень удачным и наглядным. Пусть эти зомби не такие страшные, как многим бы хотелось, зато эволюционно человек идет именно к такому типу.
Прогноз получился очень удачным и наглядным. Пусть эти зомби не такие страшные, как многим бы хотелось, зато эволюционно человек идет именно к такому типу. Мы прекрасно помним «Космическая одиссея 2001», «Сквозь горизонт», «Чужой», «Пекло» и многие другие. Эти фильмы уже давно вошли в жанр культовых и считаются эталоном жанра. И вот на мировые экраны вышел новый фильм – «Пандорум».
Мы прекрасно помним «Космическая одиссея 2001», «Сквозь горизонт», «Чужой», «Пекло» и многие другие. Эти фильмы уже давно вошли в жанр культовых и считаются эталоном жанра. И вот на мировые экраны вышел новый фильм – «Пандорум».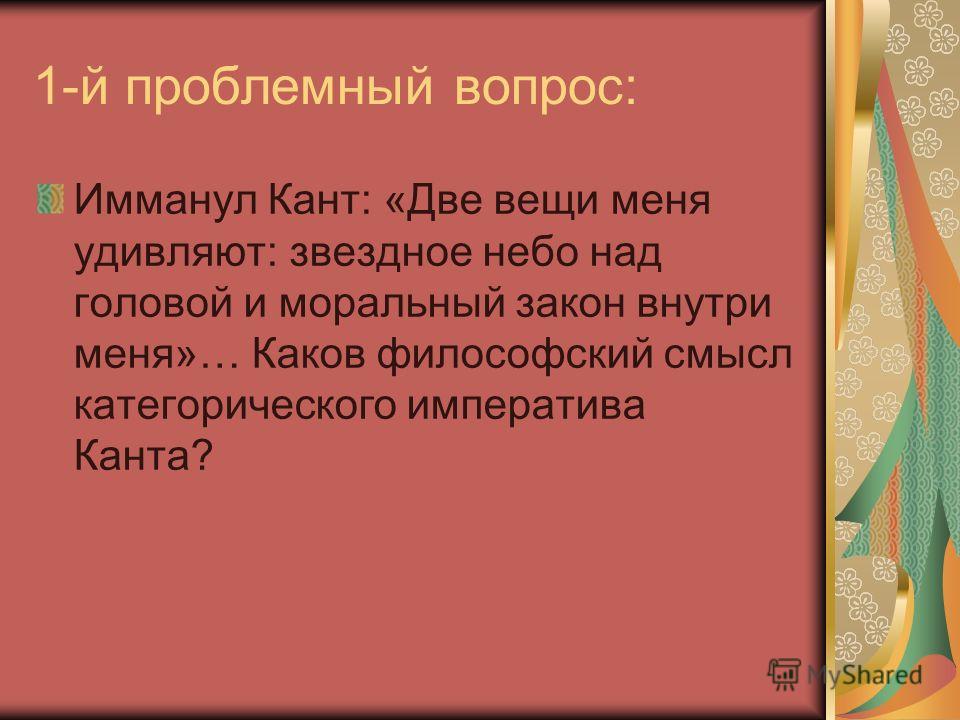
 Жаль только что он сам не сел в кресло режиссёра, а предпочёл отдать этот пост своему протеже Кристиану Альверту, который ничего такого особенного за свою жизнь не снял… до этого момента, разумеется.
Жаль только что он сам не сел в кресло режиссёра, а предпочёл отдать этот пост своему протеже Кристиану Альверту, который ничего такого особенного за свою жизнь не снял… до этого момента, разумеется. (Кстати, тоже очень стильно сделаны с этой камерой, которая бегает по мрачным коридорам «Элизиума».)
(Кстати, тоже очень стильно сделаны с этой камерой, которая бегает по мрачным коридорам «Элизиума».)
 Где Бен прекрасно сыграл психически неустойчивого скинхеда. Тут эмоциональный спектр его игры был несколько меньше, но в целом Бен справился со своей ролью как обычно на отлично. По крайней мере, все эмоции своего персонажа он передавал очень чётко. Уверен, этого парня ждёт большое будущее.
Где Бен прекрасно сыграл психически неустойчивого скинхеда. Тут эмоциональный спектр его игры был несколько меньше, но в целом Бен справился со своей ролью как обычно на отлично. По крайней мере, все эмоции своего персонажа он передавал очень чётко. Уверен, этого парня ждёт большое будущее.
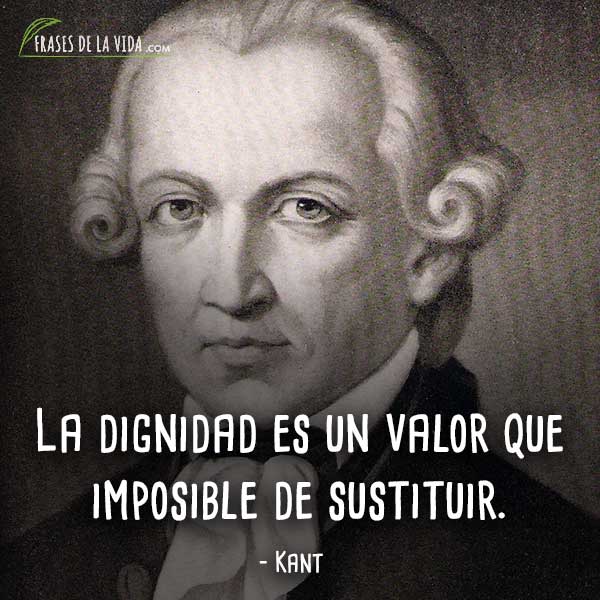 Но авторам «Пандорума» удалось создать по-настоящему оригинальное произведение, как по замыслу, так и по исполнению. Главная идея, т.е. очередная попытка в будущем спасти человечество проходит по фильму как бы фоном, однако это нисколько его не умоляет его достоинства.
Но авторам «Пандорума» удалось создать по-настоящему оригинальное произведение, как по замыслу, так и по исполнению. Главная идея, т.е. очередная попытка в будущем спасти человечество проходит по фильму как бы фоном, однако это нисколько его не умоляет его достоинства.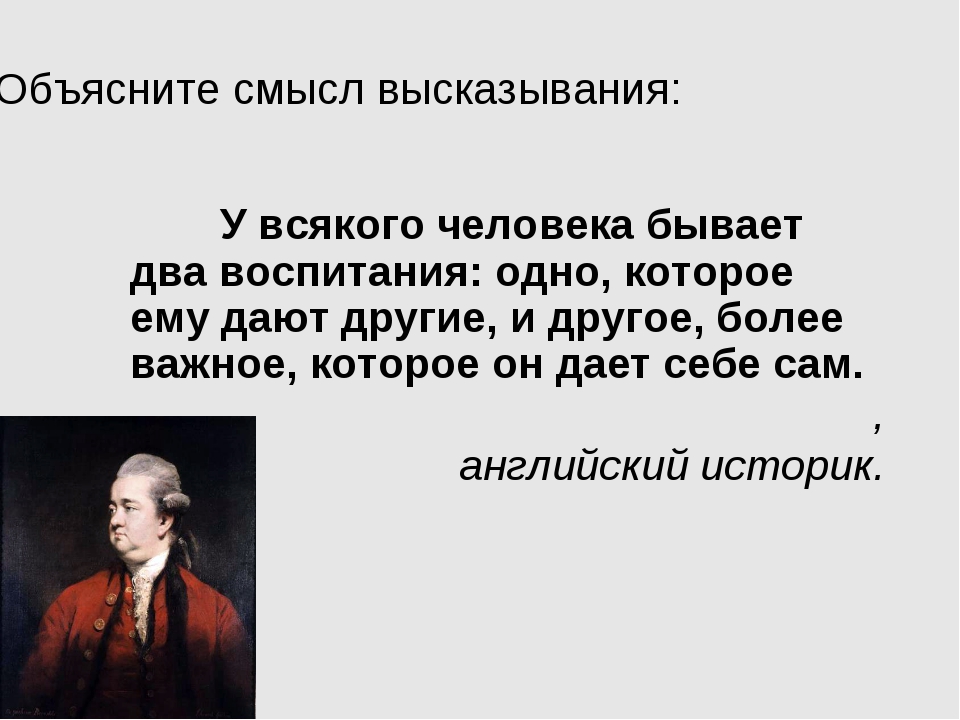

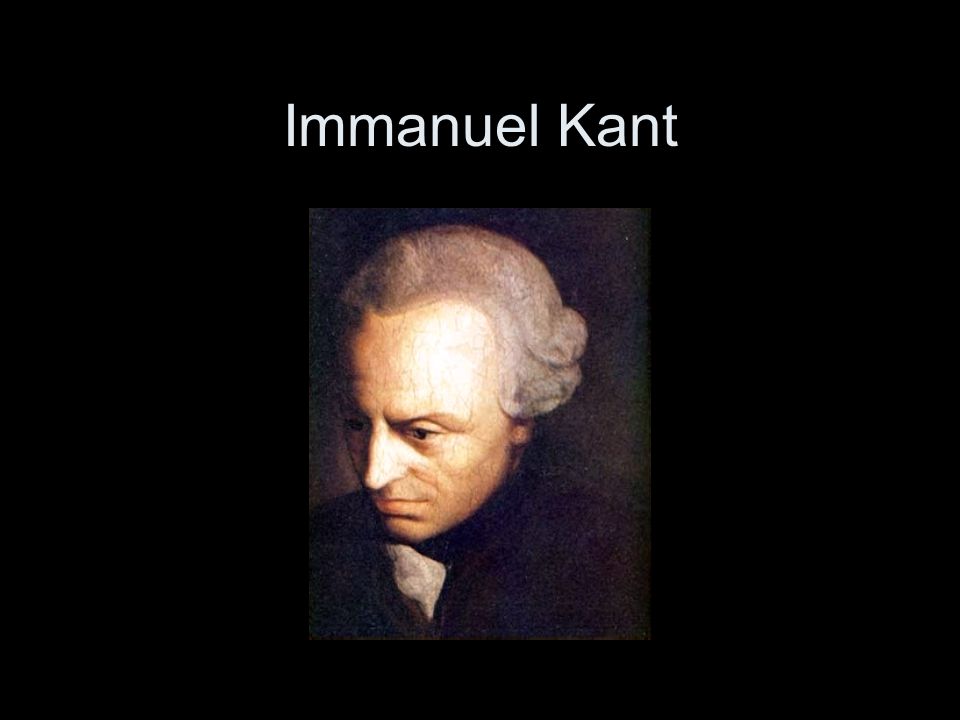 И еще — сегодня мне нестерпимо захотелось пересмотреть его снова.
И еще — сегодня мне нестерпимо захотелось пересмотреть его снова. Только то, что в данный момент нужно, чтобы действие пошло дальше, а зритель задал себе вопрос, на который захотел получить ответ. Другое дело, что ответы тут даются нелегко — нужно оставаться с героями в очень неуютном месте, где жутко, страшно, где отовсюду грозит опасность — мерзкая и отвратительная. Плюс ко всему в этом месте прошлое и будущее вначале отсутствуют как таковые, и лишь по мере развития сюжета начинают понемногу вырисовываться, пугая еще больше, чем просто неизвестность.
Только то, что в данный момент нужно, чтобы действие пошло дальше, а зритель задал себе вопрос, на который захотел получить ответ. Другое дело, что ответы тут даются нелегко — нужно оставаться с героями в очень неуютном месте, где жутко, страшно, где отовсюду грозит опасность — мерзкая и отвратительная. Плюс ко всему в этом месте прошлое и будущее вначале отсутствуют как таковые, и лишь по мере развития сюжета начинают понемногу вырисовываться, пугая еще больше, чем просто неизвестность. А посмотрев его второй раз, можно прийти в восторг от того, как тут все задумано и снято. От того, как правильно и разнопланово подана здесь информация, какие приемы использовал режиссер, чтобы воздействовать на зрителя. Это все очень нешаблонно и свежо, мне это нравится, это вызывает мое зрительское восхищение!
А посмотрев его второй раз, можно прийти в восторг от того, как тут все задумано и снято. От того, как правильно и разнопланово подана здесь информация, какие приемы использовал режиссер, чтобы воздействовать на зрителя. Это все очень нешаблонно и свежо, мне это нравится, это вызывает мое зрительское восхищение!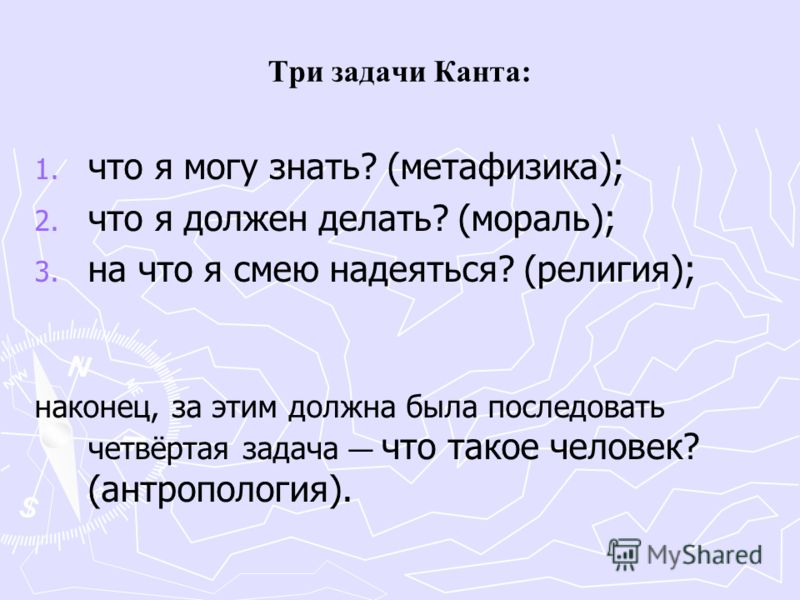 Хотя еще вчера я была уверена, что это не та фантастика, которую я смогу полюбить.
Хотя еще вчера я была уверена, что это не та фантастика, которую я смогу полюбить.
.png) В итоге в кино пошли не те, на кого фильм был рассчитан.
В итоге в кино пошли не те, на кого фильм был рассчитан.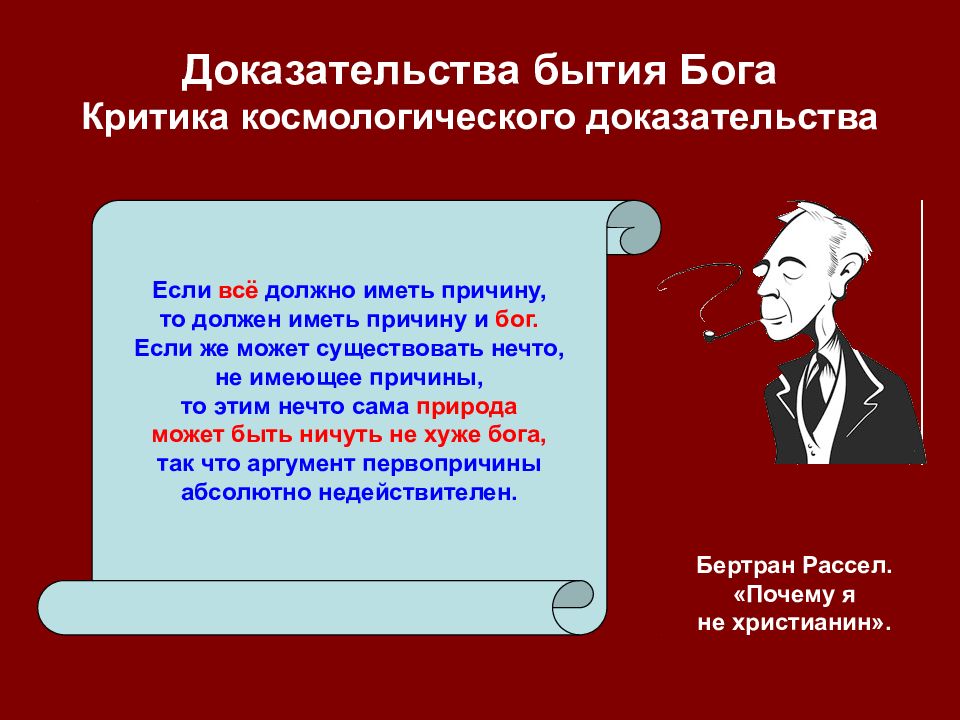 Естественно ресурсов нашей маленькой планеты начинает не хватать, начинается борьба за те самые ресурсы. Вполне актуальная тема, я вам скажу.
Естественно ресурсов нашей маленькой планеты начинает не хватать, начинается борьба за те самые ресурсы. Вполне актуальная тема, я вам скажу. Правда на нём они уже не одни…
Правда на нём они уже не одни…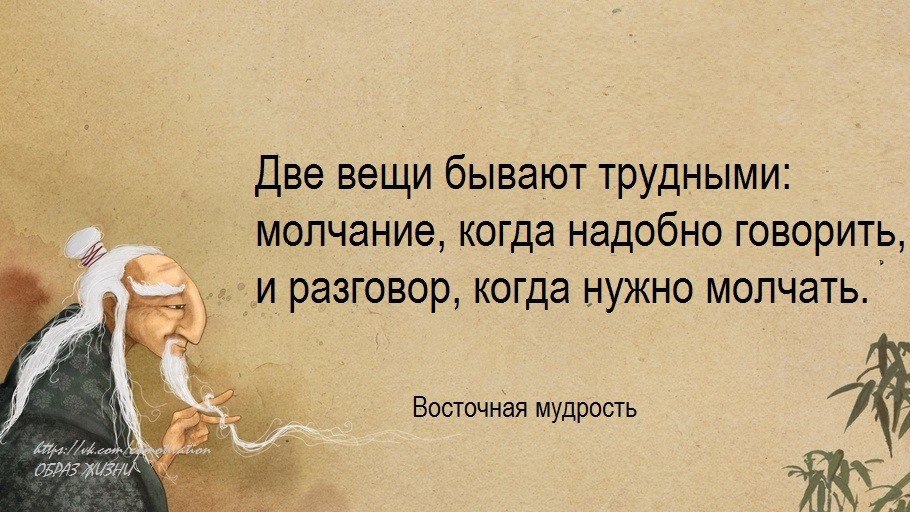 Ну или взять, допустим, Пандорум — болезнь, развивающаяся после долгого космического пребывания. Психика нарушается, люди борются сами с собой, появляются галлюцинации. Эмоциональный фон человека взрывается. Вполне можно объяснить отрешенностью человека от повседневности, одиночеством, монотонностью, привыканием к новой обстановки. А что?.. Вполне реально. И это далеко не всё. Очень многое (не хочу говорить всё) продумано чётко и имеет свой смысл; а если подумать и сопоставить, детали и мелочи встанут на свои места. Тогда даже концовка будет понятна. Которая кстати получилась интересна, в меру неожиданна, морально подкована, а также имеет свой идейный смысл, оставляющий надежду. Вроде всё отлично, но меня она почему-то не зацепила. Придраться не к чему, всё в порядке, ну просто не по мне.
Ну или взять, допустим, Пандорум — болезнь, развивающаяся после долгого космического пребывания. Психика нарушается, люди борются сами с собой, появляются галлюцинации. Эмоциональный фон человека взрывается. Вполне можно объяснить отрешенностью человека от повседневности, одиночеством, монотонностью, привыканием к новой обстановки. А что?.. Вполне реально. И это далеко не всё. Очень многое (не хочу говорить всё) продумано чётко и имеет свой смысл; а если подумать и сопоставить, детали и мелочи встанут на свои места. Тогда даже концовка будет понятна. Которая кстати получилась интересна, в меру неожиданна, морально подкована, а также имеет свой идейный смысл, оставляющий надежду. Вроде всё отлично, но меня она почему-то не зацепила. Придраться не к чему, всё в порядке, ну просто не по мне.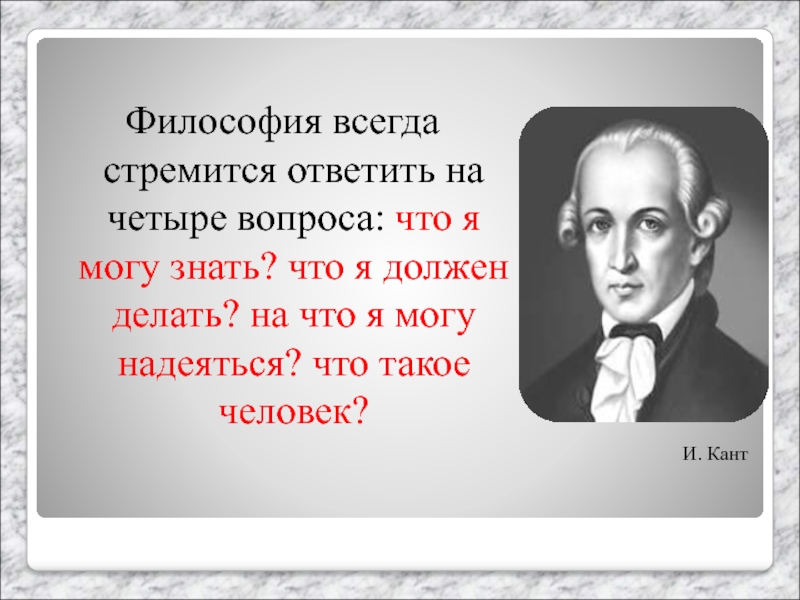
 к. я ожидал намного меньшего, думая что в итоге это будет очередной ужастик низшей пробы, и зацепить, т. к. во время просмотра я четко осознавал, что мне ой как не по себе (хотя казалось бы чем уж напугать то можно) и чувство это покинуло меня уже только, когда я добрался домой (на автомате).
к. я ожидал намного меньшего, думая что в итоге это будет очередной ужастик низшей пробы, и зацепить, т. к. во время просмотра я четко осознавал, что мне ой как не по себе (хотя казалось бы чем уж напугать то можно) и чувство это покинуло меня уже только, когда я добрался домой (на автомате). Актеры не подвели ни капельки…
Актеры не подвели ни капельки… Это то что окончательно убедило меня в том что я посмотреть классный не побоюсь этого слова фильм. Очень неожиданная и мощная.
Это то что окончательно убедило меня в том что я посмотреть классный не побоюсь этого слова фильм. Очень неожиданная и мощная.